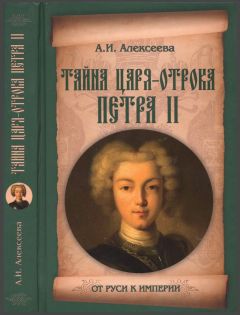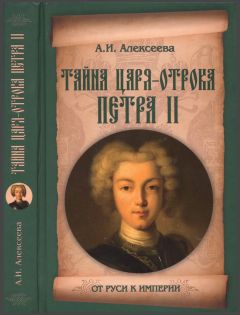Пусть с запозданием, но мы приведём здесь не пересказ, а подлинные записки леди Рондо о первом её впечатлении:
«Некоторое время тому назад я познакомилась с юной дамой… её сердце преисполнено нежной страстью… Кротость, доброта, благоразумие и учтивость этой восемнадцатилетней особы заключены в хорошенькую оболочку. Она — сестра фаворита, князя Долгорукого. Предмет её любви — брат австрийского посла; всё уже оговорено, и они ждут только каких-то бумаг, необходимых в его стране, чтобы стать, я надеюсь, счастливыми. Кажется, она очень рада, что в замужестве будет жить за пределами своей страны; она оказывает всевозможные любезности иностранцам, очень любит жениха, а тот — её».
А вот другое письмо, более подробное, касается оно помолвки её с императором:
«Со времени моего последнего письма здесь произошли удивительные перемены. Юный монарх (как предполагают, по наущению своего фаворита) объявил о своём решении жениться на хорошенькой княжне Долгорукой, о которой я упоминала в том письме. Какое жестокое разочарование для двоих людей, сердца которых были всецело отданы друг другу! Два дня тому назад состоялась церемония публичного объявления об этом, или, как русские его называют, «сговор». За день до этого княжну привезли в дом одного вельможи близ дворца, где она должна оставаться до свадьбы. Все люди света были приглашены, и общество расположилось на скамьях в большом зале: государственные сановники и русская знать по одну сторону, иностранные министры и знатные иностранцы — по другую. В дальнем конце зала был балдахин и под ним два кресла; перед креслами — алтарь, на котором лежала Библия. По обе стороны алтаря расположилось многочисленное духовенство. Когда все разместились, император вошёл в зал и несколько минут говорил с некоторыми из присутствовавших. Княжну привезли в одной из его карет из дома.
Как хорошо владела собой Долгорукая! Она и кротка, и добра, она актриса! Сердце лежит к Миллюзимо, но стать императрицей — это ли не мечта?
Брат проводил княжну до дверей зала, где её встретил царственный суженый, сопроводил её к одному из кресел, а в другое сел сам. Хорошенькая жертва (ибо я княжну считаю таковой) была одета в платье из серебряной ткани с жёстким лифом; волосы её были завиты, уложены четырьмя длинными локонами и убраны множеством драгоценных камней, на голове — маленькая корона. Она выглядела спокойной, но была очень грустна и бледна. Посидев какое-то время, они поднялись и подошли к алтарю, где он объявил, что берёт её в супруги; затем отдал ей своё кольцо, а она ему — своё, и он укрепил свой портрет на запястье её правой руки; затем они поцеловали Библию, архиепископ Новгородский прочёл краткую молитву, и император поцеловал её. Жених, держа в своей руке её правую руку, подавал её каждому проходившему, поскольку все совершили эту церемонию. Наконец, ко всеобщему удивлению, подошёл несчастный покинутый обожатель. (Так он не уехал, не исчез? Он рядом. — АА.) До этого она всё время сидела, не поднимая глаз; но тут вздрогнула и, вырвав руку из руки императора, подала её подошедшему для поцелуя. На лице её в это время отразилась тысяча различных чувств. Юный монарх вспыхнул, но подошли другие засвидетельствовать своё почтение, а друзья молодого человека вывели его из зала, посадили в сани и как можно скорее увезли из города. Поступок этот был в высшей степени опрометчив, безрассуден и, осмелюсь сказать, неожидан для княжны.
Юный монарх открыл с нею бал, который скоро закончился, к её, насколько я могу судить, большому облегчению, ибо всё её спокойствие улетучилось после этой опрометчивой выходки, и на лице её теперь не отражалось ничего, кроме страха и смятения».
Жизнь и судьба её — увы! — во власти фатума, рока…
Теперь три дня в доме Долгоруких шла хлопотня — сборы в неведомую дорогу. Что взять — на зиму, на лето? Или скоро они вернутся назад?.. Может, в свою пензенскую усадьбу сошлют, а может — как Меншикова…
Катерина, обладавшая сильным характером, в общих сборах почти не участвовала…
Впереди Катерину Долгорукую, вдовствующую императрицу (как она себя называла), ждали не княжьи имения в Пензе, не короткое гостеванье, а — десять лет ссылки и пребывание в том самом месте, куда был сослан Меншиков.
А Брюс жил верстах в сорока от Москвы, в своей усадьбе Глинки, и в те тревожные лунные ночи совсем не спал: не отходил от телескопа.
У него был ещё стеклянный шар синеватого цвета, подвешенный на шнурке, который вращался под его взглядом в особенные, лунные часы, — и можно было видеть замысловатые картины… Помогали и зеркала, которые он умел полировать до полной кондиции.
Яков Вилимович всматривался в отражения зеркал, и они уводили его далеко-далеко… Вспомнились девицы-отроковицы, что в Летнем саду умоляли когда-то его погадать… Жива ли Марья в холодной своей ссылке? Жив ли смельчак полтавский, храбрец Меншиков? Или расправилась с ними судьба?
В крутящемся цветном шаре Брюсу увиделось небо в сполохах… Северное сияние? И тут же наползли тучи… Только что малые дети играли под всполохами цветов — и опять заволокло всё, затмило… Склонился человек над землей и роет что-то. Ужели копает могилу? Да и не одну…
Шар закрутился, луна скрылась в облаках — и видение исчезло…
Но вскоре, как только Брюс перенёсся мыслью к Наташе Шереметевой, всё опять завертелось, а в зеркалах явились тени и лики… Как бы анфилада комнат, дворец… Кусковский?.. А где же Наталья?.. Отчего она в чёрном, а лицо — молодое и красивое? Так молоды бывают святые да избранники… Лицо ангельское, чистое и светлое, а сама в чёрном одеянии — уж не монашество ли ждёт её впереди? Ах, фельдмаршал Борис Петрович, как воевали мы с тобой под началом Петра, сколько писали про бомбы, мортиры да снаряды… Называли друг друга уважительно: «Милостивый государь… Любезный товарищ… Дозволь… Свидимся на Страстную седмицу, друг».
Да, из четырёх княжон, которым когда-то учёный предсказывал судьбу, — есть ли хоть одна счастливая?
Может быть, Варвара Черкасская? Детская дружба её с Петром Шереметевым длится и длится — ясное дело, власть возымели амуры. Прогулки в парке, катание с гор, балы да маскарады — благодатные времена. Но что потом? Похоже, новая императрица определила её себе во фрейлины, а это значит — никакой свадьбы…
Вглядываясь в крутящийся шар, Брюс сравнивал движение с положением звёзд через год, напрягался, как это делают магнетизёры… Теперь он хотел знать, что станет после смерти Петра II с Катериной Долгорукой. Уйдёт в монастырь, вернётся к Миллюзимо?.. Только сколько ни вглядывался в зеркала, сколько ни вращал взглядом синий шар — ничего не увидал.
Между тем ещё неделю назад Остерман прислал извещение о «долгоруковском розыске», касаемом старого князя, сына его Ивана, а более всего — дочери Катерины. Но ни лунный календарь, ни чертежи и проекции на звёздное небо не помогли…
Брюс спустился вниз. Там его давно ждала супруга Маргарита. И ни с того ни с сего набросилась на мужа. В чём только ни обвиняла! И собаки-то, мол, по ночам лают, спать не дают. И лошадей множество, а пользы никакой. Проклинала запахи из алхимической лаборатории, его самого с бредовыми идеями и сидениями в холоде наверху. Вспомнила (в который раз!) о двух дочерях их — мол, скончались они из-за него, проклятого: не жалел ни дочерей, ни её, Маргариту.
Ссоры такие повторялись столь часто, что Маргарита потребовала, чтобы ей был построен отдельный дом, — и муж обещался. Сам же он после таких ссор вскакивал на коня, или в санки, или в карету — и мчался в Москву: не терпел криков, ругани и пререканий. В Москве у него было четыре дома, а неподалёку от дома на Мясницкой — лютеранская кирха. Становился там в тёмном углу и предавался в покое мыслям своим. Но в тот мартовский вечер едва успел свернуть в переулок возле церкви Козьмы и Дамиана, как почувствовал удар в спину, — бросили в него камнем, снегом, льдиной? В досаде обернулся, крикнул, но те уже скрылись. Обычные грабители, дерзкие парни — или ненавистники «латинцев», лютеран?..
Мысли, как дятел, колотили в затылок. Церковь, кирха, мечеть — всё имеется, и почти рядом, в сем благодатном месте Москвы. Взгорки, спуски, извивы переулков и тупичков Басманных. Крутой подъем к Иванову монастырю, к церкви Иоанна Предтечи, ещё один — вправо и влево — к кирхе и храму Богоявления… Путаница улиц — не то что проспекты петровской столицы, и всё же люба Брюсу Москва, изучил он её, знает холмы и пустоты, подземные ходы и залегания. Ещё бы! Брюс из редкого числа рудознатцев, и ведомы ему тайны…
Но — всё же! — кто ударил его в спину? Нетерпимость московская к новизнам царя Петра, нелюбовь к иноземцам, неметчине, к вере иной?.. Не раз Брюс говаривал со священниками, те обвиняли веру его умственную, — мол, сидят лютеране в храме и поют по каким-то книжицам: «Отступники вы от веры христианской!» Это похоже на царевича Алексея — всё же ортодоксально православие! Разве не един для всех Бог на небе и разве мало доброго почерпнул царь Пётр на «неметчине»? Истинно свободным, православным сам оставался, ему, Брюсу, позволял быть крёстным для русских, но — охотно приглашал к себе умных немцев, шведов, иудеев… «Что за безделица? — говорил. — Ежели то на пользу отечеству, так и славно…»