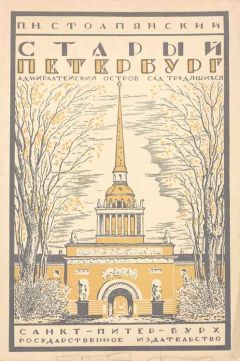Неудача особенно заметна при сравнении с другим творением Никонова – уничтоженной небольшой церковью преподобной Марии, именовавшейся Марином, на Большеохтинском единоверческом кладбище. Она сооружалась в 1895–1902 гг. на средства купчихи Марии Трофимовны Козминой на месте погребения ее родителей, т. е. являлась надгробным храмом. Здесь Никонов в своей стихии – московском зодчестве XVII в. Здесь он не скован утилитарной задачей – выделить место для отпеваний, и умело «играет» разнообразными объемами, деталями, их белым, желтым и красным цветом, создавая уменьшенное повторение своих наиболее удачных произведений, которым присуща устремленность ввысь и перекличка вертикалей. Снаружи, как часто у Никонова, храм был декорирован изразцами, изготовленными на сей раз в Художественно-промышленной школе Миргорода[214].
Казанская церковь на Красненьком кладбище
Скромнее, чем Серафимовская, выглядела Казанская церковь на старинном Красненьком кладбище, расположенном на юго-западной окраине города. Она была выстроена всего за несколько месяцев в 1901 г. по проекту гражданского инженера Н. В. Васильева и походила на небогатые деревенские храмы. Маленькая бревенчатая постройка с луковкой на крыше и одноярусной колоколенкой, вмещавшая около шестисот человек, просуществовала до последней войны. Эта церковка определяла один из полюсов кладбищенского храмостроительства – на другом высились величественные, почти соборные храмы Волковского и Митрофаниевского кладбищ.
Однако в XX в. деревянное зодчество имело на столичных кладбищах свои достижения. К ним можно отнести три церкви: две православные и одну католическую. Первой, в 1903–1905 гг., была выстроена Казанская церковь на Преображенском кладбище. Выстроена как временная, ибо архитектор В. А. Демяновский одновременно спроектировал большой каменный храм. Деревянная постройка имела три престола и множество притворов и крылец, подражая церквам русского Севера своей свободной, «открытой» композицией и разнообразием архитектурных форм[215].
Богословская церковь на Богословском кладбище
К сожалению, эта уникальная постройка не сохранилась, как и две другие: Богословская церковь на одноименном городском кладбище и костел на католическом отделении Успенского кладбища в Парголово. Проект Богословской церкви создал В. Н. Бобров, и она строилась в 1915–1916 гг. в память воинов, павших в Первую мировую войну[216]. Костел же был освящен еще до войны, в 1912 г., и возведен по чертежам работавшего в Петербурге архитектора-поляка И. В. Падлевского. В обоих сооружениях за основу были взяты сельские храмы: шатровые – в Северной Руси, и прикарпатские – в Польше. Однако оба зодчих заметно стилизовали свои прототипы, добиваясь прежде всего живописно-декоративного эффекта, к которому в целом архитектура того времени не очень стремилась.
Казанская церковь на Преображенском кладбище
После 1917 г. зодчему нечего было делать на петроградских кладбищах. Разве что калечить уже созданное. Кладбищенские церкви пострадали в той же мере, как и другие. Некоторые ансамбли, например Митрофаниевского кладбища, были уничтожены полностью, другие – наполовину или меньше. Сегодня только действующие церкви радуют глаз, остальные (среди них замечательные сооружения) ждут тщательного восстановления.
Возможно, однако, что недалек тот день, когда прерванная на долгие годы традиция возобновится и храмы снова станут строиться там, где они крайне необходимы, – на новых кладбищах пятимиллионного города.
Т. С. Царькова, С. И. Николаев
ЭПИТАФИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НЕКРОПОЛЯ
Кладбищенская культура слова включает в себя не только надгробные надписи. Слово на кладбище разнообразно – это служба и проповедь[217], девизы и надписи на эмблемах и гробах[218], «стихи на смерть», «стихи на гробницу» и прочее, т. е. слово – воплощенное (вечное) и произносимое (временное) – пронизывает все ритуально-архитектурное целое погребального обряда. Являясь составной частью особой кладбищенской культуры, слово на кладбище живет по законам «кладбищенской поэтики», основной закон которой для нас звучит так: о мертвых следует говорить или хорошо, или ничего. Отсюда предельная серьезность погребального слова, его проникновенность и эмоциональность. Несмотря на многие утраты в культурном обиходе и увядание самой кладбищенской культуры, кладбище до сих пор осознается как особое пространство («урочище»)[219], пространственно-культурный характер которого предопределяет как поведение, так и отношение к нему.
Но с течением времени, – а в подавляющем большинстве случаев очень скоро, – сложная словесная конструкция из упомянутых и других текстов естественным образом ветшает, распадается на отдельные части и от нее остается чаще всего одно лапидарное (в самом прямом смысле!) свидетельство – надгробная надпись.
Надгробная летопись Петербурга, поэтика и стилистика которой впитали в себя как национальную традицию уже XVII в., так и позднейшие европейские влияния, исключительно многообразна и богата. Правда, в ней есть досадные лакуны, особенно в первой половине XVIII в. С вынесением захоронений за пределы храма в надгробиях возникает европейская идея памятника на века (монумента). Однако и камень, и металл не всегда обеспечивают сохранность надписей. Уже В. Г. Рубан, издавая в 1779 г. в «Описании Санкт-Петербурга» надгробные надписи Александро-Невского монастыря, не смог включить некоторые стихотворные эпитафии, так как их «за ветхостию разобрать было не можно»[220].
Приводимые ниже эпитафии далеко не все сохранились в настоящее время на памятниках. Наиболее представительным сводом эпитафий петербургского некрополя является известное одноименное издание 1912–1913 гг., из которого взято большинство цитат (что специально не оговаривается).
Самые ранние из известных нам петербургских надгробных надписей были прозаическими, назовем их просто опознавательными. Типичным примером является надпись на надгробии фельдмаршала Б. П. Шереметева в Александро-Невском монастыре.
От Рождества Христова 1719 года февраля 10 дня преставился в Москве раб Божий российских войск первый генерал фельтмаршал тайный советник и военный кавалер мальтийский славного чина святого апостола Андрея и протчих орденов граф Борис Петрович Шереметев а тело его по повелению царского пресветлого величества самодержца всероссийского из Москвы привезено в царствующий град Санктпетербург и погребено в Троицком Невском монастыре апреля 10 дня 1719-го.
Подобные надписи, помещавшиеся на надгробных плитах, обычно сводятся к перечислению чинов и заслуг, а когда в отдельных случаях говорят о добродетелях почившего, то лишены эмоционального тона. С 1740-х гг. прозаическим надписям начинают сопутствовать надписи стихотворные. Первоначально они пишутся вполне в духе силлабической эпитафии рубежа XVII–XVIII вв. и, дублируя прозаическую надпись, повторяют послужной список почившего. Такова эпитафия 1744 г. грузинского князя Стефана:
Аз тысяща седмь сот двадцать девята лета
В 28 ноября жителем стал света.
А год, месяца седмь сот был сорок четвертый,
13 июля, как вкусил я смерти.
В Голландии живота я тогда лишился,
Когда дел отечеству полезных учился,
При российском министре с братом, что в средине
Зде же лежит погребен в день и час единий.
В том только разнство, что мя матерь несчастлива
В Голландию приехав, не застала жива,
А брата хотя здрава привезла с собою,
Но умершаго вскоре погребе со мною.
И тако с братом меньшим с малым трема годы
Оба здесь положены. Кия ж мы породы,
На отеческом сие гробе ты узнаешь,
Когда надпись полную тамо прочитаешь.
(Лазаревское кладбище)
Этот монолог от первого лица позволяет проиллюстрировать главную особенность «кладбищенской поэзии» вообще, а именно значительную степень консервативности жанра. Точно такие силлабические эпитафии известны как по московскому некрополю конца XVII в., так и по некрополям даже второй половины XVIII в., расходясь иногда лишь в деталях биографии. Эта консервативность объясняется, в частности, упоминавшейся особенностью поэтики кладбищенского слова: монотематизм жанра невольно приводит к повторению метафор, сравнений и устоявшейся поэтической фразеологии. Огромную роль играет и литературная традиция. Разумеется, в «высокой» поэзии приверженность традиции никак не стесняет поэта, но в массовой кладбищенской поэзии начинают действовать те же законы, которые отмечаются в художественном примитиве: хотя безвестные авторы эпитафий и соотносят свои тексты с существующим каноном, литературные достоинства почти всегда отступают на второй план перед выражением чисто человеческих чувств. Старые формы застывают и тиражируются, клише – самая характерная черта массовой эпитафии.