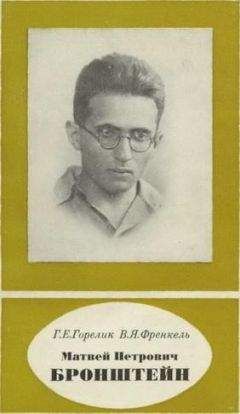Космологии повезло, что ее основатель не следил за новостями дальней астрономии. А там шел Великий спор. Дальняя астрономия помимо звезд знала еще и туманности. Одна тянется полосой через все небо и видна невооруженному глазу. Это — Млечный Путь, или по-гречески Галактика. Галилей, глядя в свой телескоп, обнаружил, однако, что это небесное молоко состоит из огромного числа крупинок-звезд. Отсюда возникла гипотеза, что и другие туманности — гораздо меньшие по видимым размерам — представляют собой звездные системы, подобные Млечному Пути, — другие галактики. К 1924 году астрономы убедились, что действительно многие туманности — это огромные звездные системы, удаленные от нашей Галактики. С тех пор Вселенную называют системой галактик, каковых — на сегодняшний день — насчитано сотни миллиардов. А в каждой галактике — миллиарды звезд.
В 1917 году Эйнштейн не знал о галактиках, но как мог он предположить равномерное распределение звезд во Вселенной?! Простой взгляд на небо опровергает это. Неравномерность расположения звезд очевидна: Млечный Путь — явное и несомненное сгущение звезд. Как стало известно позже, равномерно лишь распределение галактик, о чем Эйнштейн не ведал.
Другое его предположение правдоподобней: действительно, как скорости звезд могут сравниться со скоростью света?! Но говорить-то надо не о звездах, а о туманностях-галактиках. Фактически Эйнштейн подразумевал, что средняя плотность Вселенной постоянна во времени. Но почему?! Неудивительно, что астроном Виллем де Ситтер, единственный упомянутый в статье Эйнштейна, не принял этих предположений и искал иное решение эйнштейновских уравнений гравитации.
Эйнштейн же считал, что отказ от упрощающих предположений — это отказ от решения. И его предположения дали вполне определенное решение — вполне определенную форму Вселенной, сферически симметричную, конечную и безграничную, как и положено всякой сфере — и двухмерной и трехмерной. Радиус вселенской сферы R определялся плотностью вещества:
1/R2 = (G/c2).
Астронаблюдатели могли проверять это соотношение, оценивая по отдельности плотность и кривизну пространства, особенно «не заморачиваясь», как эта формула получилась у астротеоретика Эйнштейна. Зато ему пришлось поморочиться. Дело в том, что принятое им предположение о плотности вещества, постоянной в пространстве-времени, будучи подставлено в его уравнение
[R] = (G/c2) [T] ,
давало лишь очень скучное решение: нулевая плотность и плоская геометрия пространства-времени, никаких звезд и сплошная космическая пустота.
Эйнштейн придумал выход, добавив в свои уравнения нечто, не имевшее никаких оснований в тогдашней физике, — некую новую универсальную константу:
[R] + []= (G/c2) [T].
И получил гораздо более интересное решение, связавшее радиус сферической Вселенной R и ее плотность с величиной новой константы
1/R2 = (G/c2) = λ.
Эта связь оправдала и само диковинное третье предположение: чрезвычайно малая плотность Вселенной (из-за огромных расстояний между звездами и галактиками) означала огромный радиус вселенской сферы и суперчрезвычайную малость новой константы. Потому-то можно было не беспокоиться о влиянии новой константы на уже известные и подтвержденные гравитационные эффекты планетного масштаба.
И все же не странно ли, что год спустя после того, как Эйнштейн получил свои долгожданные уравнения гравитации, он решился их изменить? Он понимал это, написав другу: «В теории гравитации я сделал нечто такое, за что меня могут посадить в сумасшедший дом».
Совершенно иначе смотрел на новую константу де Ситтер — первый собеседник и соучастник Эйнштейна в решении космологической задачи. Голландский астроном высшей математической пробы, он еще в 1910 году включился в поиск новой теории гравитации. В частности, он выяснял, способны ли предложенные теории объяснить неньютоново движение Меркурия, и знал, что не способны. Поэтому успех Эйнштейна, объяснившего это астроявление в 1915 году, был для него важнейшим событием, поднявшим авторитет германского физика до небес. И когда Эйнштейн дерзнул и необъятные небеса объял физической теорией, де Ситтер присоединился первым. Он, правда, счел неубедительными упрощения Эйнштейна и придумал свое, астрономически резонное: если плотность вещества во Вселенной столь мала, то почему не предположить для упрощения, что ею можно вовсе пренебречь, то есть считать плотность вещества нулевой. Соответствующее решение, при наличии космологической постоянной, давало вполне определенную и весьма особую геометрию пространства-времени, которую надо было изучать и прикладывать к астрономическим наблюдениям.
Говорить о геометрии в отсутствии вещества было, однако, выше сил физика Эйнштейна, и он решение де Ситтера не принял всерьез. А впоследствии считал введение космологической константы своей ошибкой. И оказался неправ — сегодняшние космологи не мыслят своей науки без величины, которая у них, правда, перестала быть универсальной константой, и в ней появилась физическая начинка, но это — уже другая история и пока еще не история науки, а ее сегодняшний день.
Физики ценят великих коллег не за их ошибки. А историкам дороги и ошибки, если они помогают понять драматизм истории открытий, сделанных живыми людьми, которым тоже свойственно ошибаться.
Выясняя физику Вселенной, Эйнштейн следовал своему принципу делать все как можно проще, но не проще, чем надо. Однако незаметно нарушил его — переупростил Вселенную. Пять лет спустя это понял российский математик Александр Фридман.
Александр Фридман: «Вселенная не стоит на месте»
Весной 1922 года в главном физическом журнале того времени — «Zeitschrift fьr Physik» появилось обращение «К физикам Германии». Правление Германского физического общества сообщало о трудном положении коллег в России, которые с начала войны не получали немецких журналов. Поскольку лидировала тогда физика немецкоязычная, речь шла о жестоком информационном голоде. У немецких физиков просили публикации последних лет для пересылки в Петроград.
В том же самом журнале, двадцатью пятью страницами ниже, помещена статья, полученная из Петрограда и противоречащая призыву о помощи. Имя автора — Александра Фридмана — физикам было неизвестно, но статья с названием «О кривизне пространства» претендовала на многое. Автор утверждал, что решения Эйнштейна и де Ситтера, опубликованные за пять лет до того, не единственно возможные, а лишь весьма частные случаи, что плотность, постоянная по всему пространству, вовсе не обязана быть постоянной во времени. Именно в этой статье впервые сказано о «расширении Вселенной». Астрономическим фактом оно станет семь лет спустя; еще предстоит измерять и вычислять, сколько миллиардов лет расширение длилось и каково расстояние до космического горизонта, но горизонт науки расширил в 1922 году 34-летний Александр Фридман.
Александр Фридман
Если, набравшись смелости, уподобить Вселенную маятнику, то решения космологической задачи, полученные Эйнштейном и де Ситтером, можно сопоставить положениям маятника в покое. Таких положений два: когда маятник просто висит и когда он стоит «вверх ногами». А Фридман обнаружил, что вселенский маятник вовсе не обязан покоиться, ему гораздо естественней двигаться. И рассчитал закон движения на основе уравнений Эйнштейна. При этом показал, что движение возможно и при равной нулю космологической константе. Вселенная может и расширяться и сжиматься в зависимости от ее плотности и скорости в некий момент. Итак,
Уподобим теперь Вселенную резиновому шарику, помня суть эйнштейновской теории гравитации — связь кривизны пространства-времени и состояния вещества. Эйнштейн, можно сказать, обнаружил, как радиус шарика связан с плотностью и упругостью резины. Начал он с шарика, радиус которого постоянен.
Упрощение задачи — один из главных инструментов теоретика. В потемках незнания иногда ищут ключ под фонарным столбом лишь потому, что в других местах искать невозможно. Как ни странно, подобные поиски бывают успешны. Решать сложные уравнения для произвольного случая не под силу даже автору уравнений. Эйнштейн начал с простейшего случая — с максимально однородной геометрии, хотя наблюдения астрономов в 1917 году не говорили об однородности вещества во Вселенной.
Зато второе его предположение — о неподвижности шарика — выглядело столь же очевидным, как и постоянство звездного неба. Только на фоне неподвижных звезд астрономам удалось изучить движение планет, а физикам найти управляющие этим движением законы. И наконец, вечность Вселенной привычно от имени науки противостояла религиозной идее о сотворении мира.