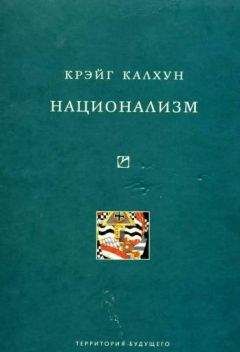Хотя националистические самоописания, как правило, придают особое значение массовому участию и межклассовому единству, национализм зачастую остается элитарным проектом, структурированным таким образом, который поддерживает или создает модели господства. И это как нельзя более применимо к тем постколониальным государствам, которые это громче всех отрицают. Как отмечает Маркакис, «антиколониальный национализм не был, как его часто представляют, массовым народным походом, движимым желанием уничтожить все, что было создано империализмом. На самом деле его сторонники были социально ограниченны, а цели — конкретны» (Markakis 1987: 70). Национализм обычно был проектом групп, связанных с колониальным государством и деловыми кругами в колониальной экономике. На самом деле национализм зачастую раньше всего возникал среди тех, кто получил образование (или имел хотя бы какой-то опыт пребывания) в имперских метрополиях. Тем не менее, поскольку антиколониальные националисты бросили вызов легитимности колониального правления на том основании, что оно не представляло местный народ (как общую категорию, а только его элиту), они смогли заложить риторические основы для более широких притязаний на политическое участие и реструктуризацию. В то же самое время социальные отношения, создаваемые элитой с представителями других слоев общества, и «модернизационные» проекты образовательных и социальных реформ, которые они проводили в «массах», зачастую вели как раз к «демассификации» простого народа. Там, где колониалисты отстаивали необходимость своей власти для поддержания мира и обеспечения экономического прогресса, местные элиты стремились создать или показать существование местной нации, соответствующей требованиям современной эпохи (Davidson 1992). При этом они предоставляли простому народу более серьезные средства мобилизации для осуществления своих собственных проектов в соперничестве с проектами изначальных националистических элит. Например, при благоприятных условиях классовые требования могли быть поддержаны националистами, когда они были направлены против колониальных или международных империалистов. После обретения независимости они становились более проблематичными.
Требования со стороны женщин зачастую были особенно проблематичными для антиколониальных националистических групп по двум причинам. Во-первых, западные колониальные державы часто кивали на «традиционное» отношение к женщинам как на свидетельство неизбежно репрессивного характера всей культурной традиции колонизированных, указывая тем самым на достоинства колониального правления как модернизации. Поднятие женского вопроса легко могло показаться антинационализмом. Во-вторых, попытки защиты «духовной сущности» нации, часто связанные с подчеркиванием национальной идентичности, находили в социальной жизни нечто внеположное по отношению к области экономики и государственного управления. Дом, семья и гендерные отношения считались особенно национальными, и попытки введения новых форм занятости для женщин и других предполагаемых «свобод» казались агрессией. Ношение хиджаба в Алжире стало сложным средоточием колониальных противоречий с Францией. Как выразился Фанон (Fanon 1965: 65), «хиджаб носили потому, что традиция требовала четкого разделения полов, но также и потому, что оккупант стремился сорвать хиджаб с Алжира». Колонизаторы представляли себя в качестве сторонников модернизации и освобождения женщин, бросая вызов хиджабу; многие алжирцы понимали это не только как нападение на привилегированное положение мужчины, но и как нападение на традиционную культуру, женскую скромность и достоинство и на сам ислам:
Господствующая администрация… описывала огромные возможности женщины, к несчастью, превращенной алжирским мужчиной в инертный, обесцененный, по сути, дегуманизированный объект. Поведение алжирцев жестко осуждалось и описывалось как средневековое и варварское… Вокруг семейной жизни алжирца оккупант нагромоздил целую кучу суждений, оценок, доводов, бородатых анекдотов и поучительных примеров, пытаясь тем самым сделать алжирца виноватым со всех сторон. (Fanon 1965: 38)
Анализ этого противоречия у Фанона, возможно, недостаточно критичен по отношению к патриархальному измерению хиджаба, включая утверждение о том, что алжирские женщины нуждались в «защите и поддержке», но он проливает свет на новую диалектику «тела и мира» (Fanon 1965: 59), проявившуюся тогда, когда свобода или «защита» и «дисциплина» женских тел стали предметом спора между алжирскими националистами и франкоязычными модернизаторами, которые были к тому же колониалистами[83]. Как отмечает Фанон, женщины, участвовавшие в освободительной борьбе, сбросили с себя хиджаб так же быстро, как и надели его во время французского господства над социальной жизнью. Но существовала «динамика хиджаба», которая не осознавалась теми, кто считал ее простым олицетворением патриархальной традиции, не замечая того, как она могла использоваться в политических целях. Это проливает свет на недавнюю борьбу во Франции по поводу ношения хиджабов школьницами-мусульманками. Независимо от качества доводов за и против секуляризма или религиозных идентичностей необходимо отметить, что государство вовсе не было нейтральным, а представляло собой действующую силу французского национализма и решало проблемы, связанные с историей колониализма и антиколониальной борьбы. Вообще, это выходит за рамки простых рассуждений о патриархальности и склонности националистических движений подтверждать маскулинные практики, укорененные в традиционных культурах (см. также: Chatterjee 1994).
Даже вне этих специфических контекстов национализмы были в большинстве своем мужскими идеологиями, не просто в том смысле, что мужчины были бóльшими националистами, чем женщины, а скорее в том, что национальная сила также часто определялась как международное могущество и военная мощь; мужчины считались потенциальными мучениками, а женщины — их матерями. Именно в своем содержании — милитаризм и патриархальная традиционная культура — национализмы были особенно сексистскими. Формально обращение националистов к равнозначности индивидуальных членов нации позволяла женщинам притязать на более широкие права, что и происходило во многих странах мира, причем не только на Западе. Но националистическая риторика также придавала особое значение производству потомства, рассуждениям о будущем нации в воспроизводстве или росте ее населения. Это одна из причин того, почему изнасилование было настолько распространенным преступлением среди сербских националистов, обесчещивавших тех, кого они желали изгнать с территории, на которую они притязали в Боснии. Этот гетеросексизм также связывает национализм с подавлением гомосексуальности и со сведением секса к средству зачатия детей — во имя нации.
«Модернизационный» потенциал национализма заключается также в том, что он содействует развитию индивидуализма (который может, хотя и не обязательно должен быть связан с представлением о том, что индивиды являются носителями прав), даже если он может подавлять сильные индивидуальные различия. Так, индийский национализм, к примеру, пытался создать исторический нарратив индийского единства, но считал самих индивидов непосредственно индийцами, а не представителями различных языковых или региональных групп, каст и т. д.[84]
В Китае коммунистическая идеология также была по своей сути националистической (еще сильнее, чем у Гоминьдана) и требовала прямой и неопосредованной верности каждого индивида, оспаривая независимые притязания родителей на детей (вспомним печально известные события, связанные с «культурной революцией»). Как было отмечено выше, современный исламский национализм, хотя и является «фундаменталистским» и «традиционным» по своему содержанию, во многом разделяет одну дискурсивную форму. Он действует как категориальная идентичность, которая устанавливает прямую связь между отдельным мусульманином и особой исламской нацией и уммой ислама. Отчасти это делает фундаменталистский ислам такой серьезной угрозой различным, формально более традиционным правительствам, вроде монархий стран Персидского залива. Эти арабские государства точно не являются националистическими и организованными вокруг современных идей гражданства. Кувейтом правит эмир, глава монаршего рода в кровнородственной группе, включающей меньшинство жителей подвластных ему земель и еще меньше тех, кто занят в материальном производстве или сфере услуг. И иракский баасистский национализм, и более широкий исламский национализм, провозглашенный Ираном, отталкиваются от идеи всеобщего гражданства, по крайней мере для мужчин. И тот, и другой позволяют индивидам участвовать в выборах, чего решительно не делает Кувейт. Фундаменталистский ислам и родственные национализмы предлагают идеологию, намного более близкую в этом отношении к идеологии Великой французской революции, чем обычно считают носители общих стереотипов, противопоставляющие западное Просвещение фундаменталистской религии вообще и исламскому Востоку в частности. Во всех этих случаях националистический дискурс обычно связан с требованием покорности, а не только с предложением членства. Он потенциально репрессивен по отношению ко всем, кто занимает подчиненное положение в идеально-типическом представлении о нации. Но он также способствует созданию отдельных граждан.