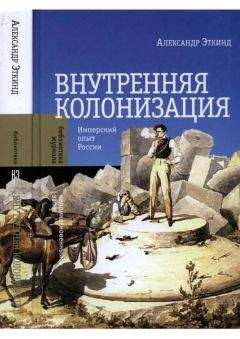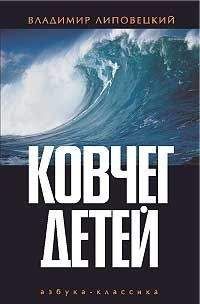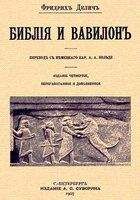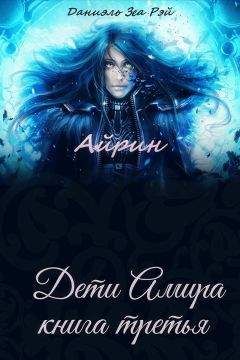Примеры такой арифметики известны историкам, хотя описывались иначе: going native, обратная ассимиляция, коренизация, месть побежденных… В наброске своей «всеобщей истории» Гоголь описывал колонии Римской империи в выразительных терминах, которые он, сам родом из колонии, применял к ситуации в Российской империи: «Римляне перенимают все у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Все мешается опять. Все делаются римлянами и ни одного настоящего римлянина!» (1984: б/39; Bojanowska 2007:107). Ассимиляция среди «побежденных» народов грозила упрощением нравов, искажением иерархий, обращением прогресса вспять. Трактуемые в руссоистском, народническом, потом толстовском или даже марксистском ключах — как бегство в природу, хождение в народ, возврат к примитиву, первобытный коммунизм, — стратегии опрощения противостояли прогрессистским и колонизаторским намерениям власти. Но они могли использоваться и иначе, как оправдание российского колониализма ссылками на авторитарные традиции «диких» народов, далеких и близких. В 1819 году Михаил Магницкий был назначен попечителем Казанского университета, где обязал всех профессоров доказывать преимущество Священного Писания над наукой, заменил преподавание римского права «византийским правом» и ввел жесткий режим, который, по его мнению, отвечал имперской миссии восточного университета; впрочем, в него и до, и долго после Магницкого принимали только студентов-христиан. В это время из кругосветной экспедиции в Казань вернулся астроном Иван Симонов, подаривший университету коллекцию предметов, собранную среди маори на островах Новой Зеландии; коллекция включала большой деревянный жезл вождя. Вдохновленный этим жезлом, Магницкий писал в послании Совету университета:
Любопытно и вместе с тем утешительно, что вопреки всем неистовым теориям естественного права о равенстве и безначалии естественного человека, перед глазами нашими открытые, дикие, истинные сыны природы присылают нам непреложный знак их покорности и естественного единодержавия (Воробьев и др. 1957: 9).
История российской колонизации Сибири полна тревожных рассказов об отатаривании, отунгузивании, объякучении, окиргизивании русских поселенцев и одновременно о «культурном бессилии» и низкой «ассимиляционной способности» российских крестьян и казаков. Объездивший Сибирь Николай Пржевальский писал: «Ассимилирование происходит здесь в обратном направлении. Казаки перенимают язык и обычаи своих инородческих соседей; от себя же не передают им ничего. Дома казак щеголяет в китайском халате, говорит по-монгольски или по-киргизски… Даже физиономия нашего казака выродилась и всего чаще напоминает облик своего соседа-ино-родца» (цит. по: Ремнев, Суворова 2011:166). Но и те колонисты, кто сохранил русский язык, быстро превращались в сибиряков, гордившихся своими отличиями от соотечествеников «из России». Сравнивая их с русскими крестьянами, приезжие приписывали сибирякам «сухой материализм», «сытое довольство», забвение фольклорных и общинных традиций. Во втором поколении сибирские колонисты и правда жили иначе и лучше, чем их двоюродные братья и сестры в российской метрополии. Обобщая путевые заметки и воспоминания приезжих русских, сибирские исследователи обобщают этот мотив в фигуре сравнения: «Подобно англичанину, который превратился в янки, русский превратился в сибиряка» (Ремнев, Суворова 2011: 184). Народническая интеллигенция, к которой принадлежали русские этнографы и из которой все чаще выходили российские чиновники, воспринимала эти изменения с грустью, даже скорбью.
Отрицательная гегемония могла сосуществовать с относительно мирным доминированием, как в Якутии, но ее сочетание с массовым насилием на Кавказе было обречено на провал. От Гоголя до Конрада и от Пушкина до многих поколений профессиональных ориенталистов (Березин 1858; Morrison 2008: 288) интеллектуалы по обе стороны колониальной пропасти — колонизованные и колонизующие — считали такую ситуацию бесперспективной. Они удивлялись российской неспособности дать покоренным народа позитивные образцы, привлекательные для них культурные формы, действительно нужные им товары и другие элементы высшей цивилизации. Но, как мы знаем в наш постколониальный век, другие цивилизации — британская, французская и прочие — тоже оказались не очень способны играть эту высокую роль. Готовность русских ассимилироваться среди покоренных народов, однако, давала шанс парадоксальной надежде, что русские обладают уникальным для имперской нации видением мира — смиренным, отзывчивым, космополитичным. Хотя эту идею обычно ассоциируют с пушкинской речью Достоевского (1880) и с ее поэтическим развитием у Блока (1918), она развивалась на протяжении всего Высокого Имперского периода. Опережая развитие этой идеи, западник Карамзин возражал против нее в национальном ключе:
Истинный Космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя (1989).
И наоборот, создавая в 1840-х годах всеобщую историю миграций, славянофил Алексей Хомяков пытался увидеть в этой ситуации «открытости» и «космополитизма» особенность и преимущество российского пути колонизации:
Ни один Американец в Соединенных Штатах… не говорит языком краснокожих… И даже флегматический толстяк болот Голландии смотрит в своих колониях на туземцев, как на племя, созданное Богом для служения и рабства, как человекообразного скота, а не человека… Русский смотрит на все народы, замежеванные в бесконечные границы Северного царства, как на братьев своих, и даже Сибиряки на своих вечерних беседах часто употребляют язык кочевых соседей своих, Якутов и Бурят. Лихой казак Кавказа берет жену из аула Чеченского, крестьянин женится на Татарке или Мордовке, и Россия называет своей славой и радос-тию правнука негра Ганнибала, тогда как свободолюбивые проповедники равенства в Америке отказали бы ему в праве гражданства (1871: 1/107).
Фейерверки
Доминирование может быть эффективным как при наличии общего языка, веры и образования, так и без них. Гегемония невозможна без общей культуры, разделяемой колонизованными и колонизаторами с их разными слоями, расами и сословиями. Российская империя экспериментировала в течение двух столетий, комбинируя эти процессы на основе развивавшихся технологий. Важнейшим из факторов, помогших этой империи захватить и контролировать огромные пространства Евразии, был порох. Огнестрельное оружие было двигателем российской колонизации, начиная со взятия Новгорода и Казани и до Сибири, Аляски и Средней Азии. Благодаря его двум характеристикам — поражающей силе и легкости контроля над его распространением — государство смогло монополизировать насилие на огромной территории. Британскую империю создал парус, Российскую — порох.
В определенных ситуациях порох, универсальная субстанция доминирования, обеспечивал и гегемонию над сердцами и умами подданных. В редкие мгновения ритуального единения салюты и фейерверки создавали официальный язык, объединявший неграмотных и образованных, владевших менявшимися языками империи и тех, кто их не знал. Своей способностью подражать стихиям фейерверки позволяли империи говорить с подданными на языке света, движения и звука, который был уникально свободным от культурной специфики.
Начиная с Петра I фейерверки демонстрировали подданным мощь и красоту империи. Переполненные аллегорическими значениями, они поражали всех, хотя только владевшие высоким языком культуры могли расшифровать их скрытые послания. Стихи и эмблемы высвечивались, вертелись и взрывались в небе, позволяя ритуалам империи подражать деяниям бога-громовержца. Петр видел педагогическую связь между фейерверками и огнестрельным оружием: привыкши к фейерверкам, подданные будут меньше бояться пушек, говорил он. Создание фейерверков было одной из основных функций Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге: таким способом Академия доказывала свою пользу для государства. Размах фейерверков был поистине современным: в 1732 году на Неве за две минуты были зажжены 30 тысяч факелов (Сариева 2000:89). Регулярные фейерверки были одним из немногих событий в имперской России, в которых элита соединялась с массами, — первым средством массовой коммуникации. Празднуя победу над шведами в 1710 году, пылающий российский орел запускал ракету в горящего шведского льва. Фейерверки изображали битвы, пейзажи, карты и показывали другие образы колониального завоевания — турецкие крепости, шведские корабли, а однажды, в 1748-м, даже сибирский кедр (Werrett 2010). Фейерверк на коронации Екатерины II в числе прочего содержал «аллегорический образ России», который сопровождался салютом из 101 орудия (Wortman 1995: 1/118). В 1789 году появилась инструкция, как самому сделать фейерверк; она была предназначена дворянам, желавшим поразить этим зрелищем собственных дворовых (Сариева 2000). В 1857 году Николай Игнатьев путешествовал с отрядом казаков по Средней Азии. Когда его атаковали туркмены, он разогнал их, запустив фейерверк кочевники были так поражены «дьявольским огнем», что «молили о прощении» (Stead 1888: 272), с похожей историей мы познакомимся и в «Очарованном страннике» Лескова (1872). Андрей Болотов, российский офицер, изучавший философию и пиротехнику в Кенигсберге, тонко определил функцию фейерверка: «Самою пышностию оного ослепить народ подлый» (1986:448).