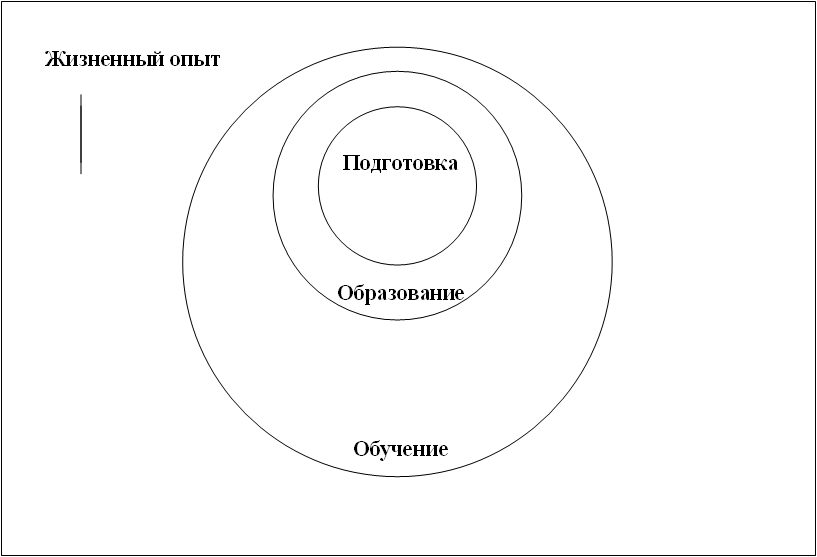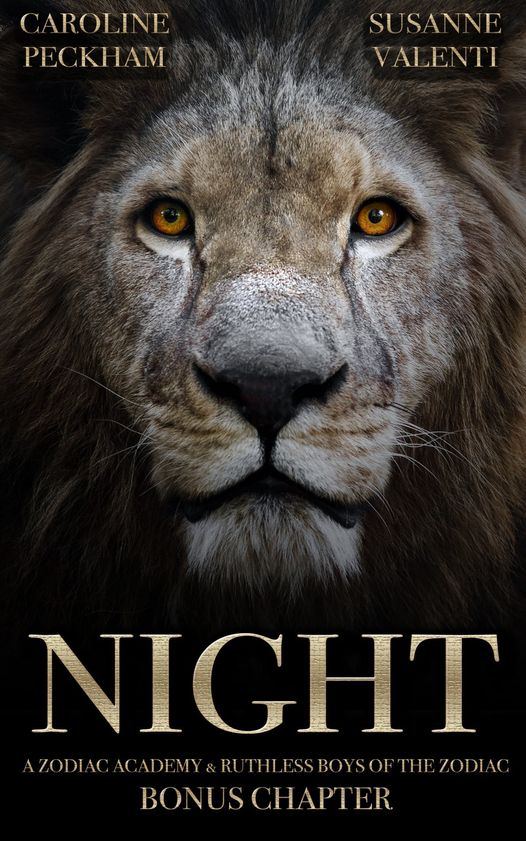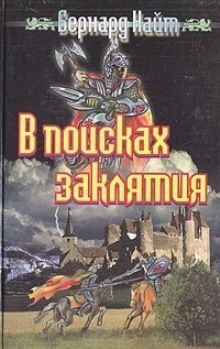что Он был
«совершенным и святым примером, которому нам надлежит следовать».
С другой стороны, она расходилась с ними во мнении, когда добавляла, что
« нам никогда не сравниться с этим образцом; но мы можем подражать ему и уподобляться по мере сил»
( Ревью энд Геральд, 5 февраля 1895 г., с. 81; курсив мой).
Эти два направления в истолковании человеческой природы Христа оформились в 1890–х годах. Они оказывали влияние на адвентистскую концепцию спасения на протяжении всего двадцатого века. М. Л. Андреасен принял эстафету У Джоунса, Ваггонера и Прескотта и продолжал развивать их христологию на протяжении 30–х и 40–х годов прошлого века. Другое направление оставалось в тени в адвентистском богословии, пока в середине 1950–х годов исследователи не обнаружили письмо Елены Уайт к Бейкерам и не стали изучать ее разрозненные высказывания на эту тему в их совокупности.
Между тем можно с полной уверенностью констатировать, что в промежутке между последним десятилетием девятнадцатого века и серединой века двадцатого у адвентистов было принято считать, что воплотившийся Христос обладал всеми теми же наклонностями ко греху, что и остальные дети Адама. Проблематика, связанная с традиционной церковной позицией по вопросу о человеческой природе Христа, не становилась темой для серьезного обсуждения вплоть до 50–х годов прошлого века. Но, как мы увидим в 7–й главе, в годы, последовавшие за Миннеаполисом, она была предметом самых горячих споров в церковной истории.
В любом случае события вокруг сессии Генеральной Конференции 1888 года в Миннеаполисе были потрясением для Церкви адвентистов седьмого дня и не прошли для нее бесследно. В течение четырех десятилетий Церковь довольствовалась проповедью, суть которой сводилась к тому, что есть адвентист в адвентизме. Адвентисты дорожили своей вестью с ее отличительными доктринами о Втором пришествии, двухфазном служении Христа, субботе и условном бессмертии, которые были так замечательно обрамлены эсхатологией центральных глав Книги Откровение.
Когда был поднят второй вопрос — что есть христианин в адвентизме? — для Церкви это стало шоком. Как будто две тектонические плиты наскочили одна на другую, и от этого столкновения поднялись ударные волны, которые сотрясают Церковь вот уже более ста лет. Одной из трагедий, связанных с событиями 1888 года, стало то, что вожди традиционного адвентизма усмотрели в новых учениях о благодати и вере вызов или даже отвержение ориентированного на закон адвентизма прошлых лет. Они могли и должны были понять, что эти два вопроса дополняют, а не противоречат друг другу. Адвентизму было просто необходимо найти себя в более широких рамках христианской вести, унаследованной от ранней Церкви и Реформации.
Джоунс и Ваггонер, и особенно Елена Уайт с ее акцентом на вере в Иисуса как Спасителя, проложили путь к осознанию этой взаимодополняемости. Благодаря этому новому пониманию адвентизм соединил «две половинки» вести третьего ангела из Откр. 14:12, где закон и Евангелие идут рука об руку.
Впрочем, в течение нескольких последующих десятилетий данный подход оставался в адвентизме сравнительно невостребованным. После Миннеаполиса адвентисты стали лучше понимать Евангелие, однако в большинстве своем они по–прежнему не улавливали связи между законом и Евангелием и между адвентизмом и евангелическим христианством. Что касается самого Миннеаполиса как исторической вехи и тогдашних горячих споров о праведности по вере, то после 1890–х годов они скоро забылись, и вспомнили о них, как мы увидим в следующей главе, только в конце двадцатых годов прошлого века.
А тем временем между 1900 и 1920 годами адвентизм сотрясли по крайней мере еще пять богословских дискуссий. Первая была связана с движением «святой плоти», которое вышло за рамки традиционного адвентистского интереса к совершенствованию характера и стало проповедовать о физическом совершенстве человеческого тела перед Вторым пришествием. Вторая дискуссия была вызвана волной пантеистических идей, прокатившейся по Церкви под влиянием таких адвентистских деятелей, как Келлог и Ваггонер. Третья возникла в связи с А. Ф. Балленджером, который отверг традиционное адвентистское понимание святилища и служений в нем. Пятидесятническая экклесиология святости, сформулированная Джоунсом и Ваггонером, привела к четвертому противостоянию. Эта концепция отвергала необходимость в церковной организации на том основании, что Святой Дух обращается непосредственно к каждому члену церкви. И, наконец, пятой стала продолжительная дискуссия по поводу термина «ежедневная» в Дан. 8:13, где С. Н. Хаскелл и его сторонники отстаивали так называемый старый взгляд, согласно которому «ежедневная» имеет отношение к римскому язычеству, а Прескотт и его единомышленники настаивали, что «ежедневная» символизирует священническое посредничество Христа в небесном святилище. Как и дебаты по поводу закона в Послании к Галатам двадцатью годами ранее, конфликт по поводу «ежедневной» был так или иначе связан со спорами о роли Елены Уайт как пророка–толкователя Библии. И снова она отвергла подобные притязания.
« Я не могу согласиться, — писала она, — чтобы какой–либо из моих трудов был использован для решения этого вопроса»
( Избранные вести, т. 1, с. 164).
Никаких особых богословских прорывов или перемен за этими пятью внутренними конфликтами не последовало. Следующая веха в развитии богословия адвентистов седьмого дня стала результатом не внутреннего напряжения, а растущего разделения в протестантском мире между модернизмом и фундаментализмом, достигшего критической точки в 1920–х годах. Этот внешний кризис подвел адвентизм к третьему великому вопросу идентичности.
Глава 6
Что есть фундаменталистского в адвентизме? (1919—1950)
К 1919 году Церковь адвентистов седьмого дня прошла через два кризиса идентичности. Во время первого — великого разочарования октября 1844 года — встал ребром вопрос: «Что есть адвентистского в адвентизме?» Во время второго, достигшего кульминации в 1888 году на миннеаполисской конференции, решался вопрос: «Что есть христианского в адвентизме?» и каким образом наша Церковь должна сочетать отличительные адвентистские доктрины с теми учениями, которые она разделяет с другими евангелическими конфессиями.
Если по первому великому вопросу в истории их богословского развития адвентистам удалось в целом достичь единомыслия, то по второму до согласия было еще очень далеко. В течение 1890–х годов в адвентистской среде то и дело вспыхивали разного рода споры и выдвигались разного рода концепции, связанные с вопросом: «Что есть христианского в адвентизме?», но события, сопровождавшие кризис, вызванный идеями Келлога и Джоунса и первой мировой войной, несколько приглушили споры вокруг 1888 года в первые два десятилетия двадцатого века. В 1920–х годах дебаты по христианским аспектам