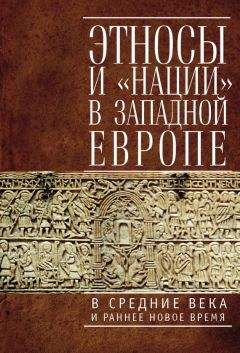Акцент на первой из них означал обращение к «традиции», «культуре», «самобытному характеру» или даже к «расе». Акцент на второй подразумевал выявление общих контуров современного им исторического процесса и, в особенности, того, что считалось преобладающим направлением и значимым фактором этого процесса, т. е. самого процесса государственного строительства. В самой общей форме вопрос о том, «кто мы такие», означал особую систему символов, использование которых актуализировало не только деятельность верховной власти в переломный для нее период, но и повседневную жизнь различных подданных монарха. При этом этнополитический дискурс, построенный на основе символических форм, взятых из местных традиций, был дискурсом эссенциалистски и отражал субъективную сторону создания коллективной идентичности. Такой дискурс был в психологическом плане достаточно близким тем этнокультурным образованиям, для которых он предназначался. Его социальные последствия оказывались изоляционистскими, поскольку не учитывали специфики современного момента. Этнополитический дискурс, построенный на основе форм, присущих главному направлению развития современной истории, т. е. задачам развития композитарной монархии, был по существу эпохалистским и отражал объективную составляющую самого процесса. Его социальные последствия, как правило, были антии-золяционистскими, а в психологическом плане этнокультурные группы воспринимали его, судя по всему, как навязанный извне. Как правило, сочетание обоих дискурсов в практике верховной власти обеспечивало для нее определенный «культурный баланс».
Приспособление или движение к искусственно создаваемой коллективной идентичности, с одной стороны, сопровождалось обострением напряженности между различными этнокультурными группами в обществе. С другой – происходило своеобразное «смягчение» сложившихся культурно-исторических форм, не исключавшее их специфического контекста, а также их последующего превращения в универсальный критерий, определявший лояльность таких групп к верховной власти. Именно таким образом осмысленные традиционные культурно-исторические формы обретали, как представляется, обновленное, т. е. исключительно политическое звучание.
Напряженность между дискурсами, опирающимися, с одной стороны, на традицию, а, с другой – на современные формы, опосредующие существование композитарной государственности, не ограничивалась интеллектуальными пристрастиями тех или иных креативно настроенных групп. Ее реальное значение определялось сочетанием таких предпочтений и нарастающих противоречий между обновленными в ходе таких преобразований социальными институтами, перегруженными на начальном этапе общественной трансформации разноречивыми культурными смыслами.
Британская идентичность, таким образом, не исчерпывалась создающими ее дискурсами. Образы, метафоры и риторические фигуры, на основе которых выстраивались такие дискурсы, были своеобразными культурно-логическими инструментами, используемыми для того, чтобы раскрыть возможные проявления формирующейся коллективной самоидентификации.
Сложилось так, что в условиях полиэтнических и к тому же композитарных государств взаимное переплетение эссенциалистских и эпоха-листских дискурсов, а также характерных для них практик всегда перегружалось интересами перестраивающегося государства. В этом смысле позиция ориентированных на традиционные формы дискурсов почти всегда проигрывала ориентированным на современный процесс стратегиям. Британская идентичность в том виде, в котором она сформировалась к концу XVIII века, была тому убедительным подтверждением.
Британский концепт, обозначавший реальные и смысловые границы ориентированного на него коллективного субъекта, и сам коллективный субъект, был подчинен определенным социально-культурным рамкам, объем и символическое значение которых актуализировали, прежде всего, составной характер самого британского государственного организма. Гальфридианский миф с его сугубо эссенциалистским содержанием, но при этом прочитанный и интерпретированный с эпохалистских позиций, выполнял не только функцию подобных социально-культурных рамок, но и примирял неизбежные в таком случае противоречия. Выражаясь языком К. Гирца, именно он обеспечивал своеобразный культурный баланс власти.
Начну с самого главного. Само понятие «британский» распространялось исключительно на территориальные владения композитарной монархии и, как следствие, но с некоторыми оговорками – на саму монархию, с известным напряжением уже при Генрихе VIII Тюдоре и куда более последовательно – при Якове I Стюарте. Вплоть до 1760-х годов это понятие покрывало, за исключением заморских территорий монархии – всю основную часть британского архипелага6. В этом смысле любая ассоциация с «британским» приобретала особый территориальный оттенок или же ориентировалась на ее островной характер, т. е. была инсулярной. Британский архипелаг был главным объектом воображаемого единства. Сформированный или сформировавшийся субъект подобной идентичности, т. е. собственно британцы, пока еще отсутствовал.
Эпохалистски настроенный дискурс содержал взамен, казалось бы, естественного «бритты» или более широкого «кельты» – достаточно громоздкую конструкцию, в которой этноним «англосаксы» или более широкое понятие «германцы» занимал доминирующую позицию. При этом бритты или кельты сохраняли статус этноплеменного образования (тем самым обеспечивалась незапамятная традиция), а англосаксы или германцы, оставляя за собой нетронутой известную часть их этноплеменной истории, обретали статус этносоциального и этнополитического образования, реализуя и обеспечивая статус самой Англии (и, должно быть, в последующем англичан) внутри композитарной триады. В данном случае англосаксы и бритты оказывались частями или элементами полиэтничной группы, в которой германские племена исполняли роль старшего брата, а остальные элементы оставались на «младших» позициях. При этом ни один из элементов этой полиэтничной группы, связанный между собой узами генетического (кровного) родства, не мыслился в качестве самостоятельного и воспринимался исключительно в категориях родовой близости.
Напомню, что интерпретируя гальфридианскую версию создания «британской» империи уже тюдоровская пропаганда исходила из того, что после смерти ее основателя – легендарного Брута она превращается в подобие составной монархии, оставаясь разделенной между его тремя сыновьями. Старший из них – Локрин, управляя Англией (Лоегрией), достиг невероятных успехов, при этом его младшие братья Альбанакт и Камбр, получившие по наследству Шотландию (Альбанию) и Уэльс (Валлию) соответственно, признавая его достижения, принесли ему оммаж и тем самым признали главенство английского трона. В дальнейшей перспективе состав уже постбрутских модификаций композитарной монархии неоднократно изменялся, но при этом отношения между ее отдельными композитами каждый раз повторяли подпитанную идеями старшинства исходную схему: Англии либо принадлежала инициатива нового образования, либо заново объединяющиеся территории, так или иначе, признавали ее политическое верховенство.
Среди британских интеллектуалов вплоть до конца XVIII века отсутствовало ярко выраженное стремление к четкому разграничению этнической и культурной природы кельтов и германцев7. Господствовавшие в среде англоязычных антиквариев подходы к истории британских этносов во многом опирались на ветхозаветные тексты, а также доступные к тому времени античные памятники, прежде всего, сочинения Плиния Старшего и открытого для европейцев в XV веке Тацита. Оба из них, как известно, не проводили четкой границы между кельтами и германцами и предпочитали описывать их собирательно, различая их не столько этнически и культурно, сколько географически, т. е. как народы, живущие к северу от Рейна.
Насколько можно судить, значительная часть «этнографических» экскурсов XVI–XVII веков во многом реализовала принципы географического испомещения кельтов и германцев, представленные в основном в текстах римских авторов, и через этот весьма доступный в инструментальном плане прием реализовывала искомую близость двух этнических образований8. При этом анализ усиливался этимологией этнонимов, при всех возможных различиях допускавшей наличие дополнительных аргументов, которые усиливали степень родства между тевтонскими и кельтскими народами.
Чаще всего использовалась развернутая схема Плиния Старшего и, в частности, его описание ингевонов. Как известно, эта группа германских племен состояла из кимвров, населявших север Ютландского полуострова, тевтонов, обитавших на западном побережье Ютландии и в низовьях реки Эльбы, а также племен хавков, оккупировавших северо-западные границы современной Швейцарии.