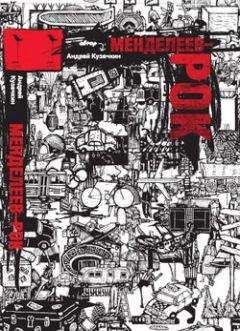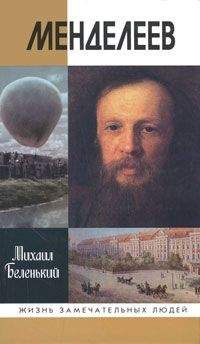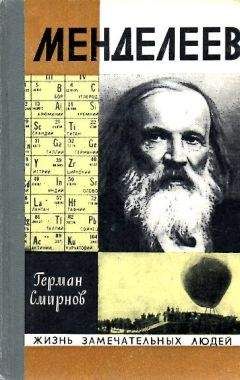"Не все же крестьяне бегут в города", - заметит читатель. Совершенно верно, отвечу я. Скажу более: из тех, что бегут в города, многие не порывают связей с деревней. Многие высылают в деревню заработанные гроши, и местами еще большой вопрос, кто кормит кого: деревня ли город или город деревню. Все так теперь извратилось и перепуталось, как в китайском калейдоскопе. Если я не ошибаюсь, однако, город все-таки больше высасывает из деревни, чем дает ей. Начиная с людей. Все талантливые молодые люди, из дворянских семей и из крестьянских, уходят обыкновенно из деревни навсегда. Трудно подсчитать, до какой степени это разоряет глушь. Выходит все равно как если бы на огороде вы тщательно выпалывали самые удачные экземпляры овощей, а оставляли бы самые неудачные да сорную траву. Получилась бы не культура, а антикультура. Городская цивилизация обирает мужика, начиная с лучших его детей. Деревенская раса мельчает - не только вследствие недоедания, но и вследствие отбора лучших, что идут в города. Городское крестьянство тоже не Бог весть что, но все же это гвардия народная, и нельзя предположить, чтобы земля не страдала от ухода с нее всего, что крупно.
Проехав десятка два деревень, я нашел во многих из них перемену. Там, где невдалеке прошла железная дорога, мужики сильно поправились, главным образом от извоза. Это отразилось прежде всего на постройках. Появилось много светлых, обшитых тесом изб, хорошо крытых соломой "под лопату". Есть крытые "лучинкой" (по-моему - щегольской, но самый нелепый тип кровли, приспособленный как бы нарочно для пожара). Встречаются, и очень часто, избы в два, даже в три сруба, настоящее дома, хоть бы уездному городу впору. Окна - крупные, светлые, цветочки на окнах, занавесочки. Крайне редко, но встречаются уже полусадики, фруктовые садишки и огороды. По расспросам, вообще крестьяне чувствуют наклон к комфорту, черта и хорошая, и плохая,
смотря по тому, представляет ли она следствие соблазна или потребности. Роскошь, как известно, и разоряет, и понуждает к труду. Лет тридцать назад крестьяне нашей местности, еще не вышедшие из курных изб и лучинного освещения, набросились на новую одежду: ситцы, шелка, плис, сапоги, пиджаки и проч. Ситцевая мануфактура сильно разорила тогда крестьянство, убила тысячелетний бабий промысел - домотканое белье и платье. Теперь, не знаю отчего - оттого ли, что крестьяне разорились или мода прошла, но одеваются беднее. В первый Спас я был на погосте шелковиков у баб что-то уже не видно. Последние остатки древнерусских костюмов (сарафаны, повойники и проч.) совсем исчезли. У всех женщин кофточки и юбки; у мужчин, даже у стариков, пиджаки. Совсем чухонщина, а не Россия. Стало быть, так у нас на роду написано: ведь и в старину у нас одежда была не своя, а татарская (сарафан, кафтан, армяк, зипун и проч.). Вместе с движением строить хорошие избы, чему в самом деле способствуют пожары, замечается большая требовательность в еде. Конечно, бедный крестьянин сидит на картофеле да на спитом чае, куда крошит хлеб, - но пушного хлеба, обычного в старину, уже не едят. Потребностью становится пеклеванный хлеб. Чуть побогаче, нынешний крестьянин любит поесть. Опять же это и хороший признак, и дурной, смотря по его происхождению.
До сих пор я ничего не сказал о пьянстве в деревне, хотя достаточно было бы как следует осветить эту сторону, чтобы трагедия деревни стала ясной. О пьянстве что же писать? Пришлось бы повторяться. Пьют по-прежнему, по-скотски пьют, погано и безобразно. Первого июля - большой ли, кажется, праздник? Всего лишь Маккавеи какие-то, еврейские генералы, которых нам чтить, казалось бы, решительно не за что. Притом будень день, суббота. Тем не менее по проселочным дорогам брели шатающиеся пьяные. Гнусно видеть, как выписывает мыслете иной старик, и тут же идет его дочка, внучата. Проезжаю станцию недавно построенной железной дороги. Пьяные валяются, как трупы, у вокзала и по улицам. "Смотрите, не раздавите человека!" - кричит женщина моему кучеру. А "человек" уткнулся носом в засохшую грязь, и тут же его рвота. Немного дальше молодой парень тащит двух пьяных стариков - один из них плешивый, другой в шляпе-котелке. В воздухе от всех троих висит самая зловонная ругань. Это, заметьте, на станции вновь открытой железной дороги, которую ждали сорок лет, тосковали о ней, мечтали. Она врезалась наконец во мхи и болота с своим паром и электричеством - и вот какое встречает культурное человечество!
Омерзительное пьянство народное - самое яркое доказательство отсутствия у нас - и уже с давних пор - внимательной власти. Чиновническому правительству, по-видимому, все равно - гибнет народ от пьянства или не гибнет, вырождается он или не вырождается. В каждой крупной деревне теперь непременно открыта "казенная винная лавка" нумер такой-то, да сверх того всюду пошли пивные лавки. Жадный до водки - пьют ее иные уже не рюмками, а чайными стаканами, - народ наш оказался крайне жадным и до пива. "Корова столько не выпьет воды, сколько мужик пива", - говорили мне в одной деревне. Пьют уже не бутылками, а ящиками, по дюжине, по две дюжины бутылок на брата... Кроме казенных кабаков в каждой деревне в двух-трех местах есть тайная продажа водки. Она всего на четыре копейки дороже казенной, считая бутылку. Русское пьянство народное вступает, по-видимому, в период какого-то особого психоза. Оказывается, у нас в большом распространении, кроме водки, так называемая ликва. Это уже не спирт, а какой-то эфир, рюмка которого, как мне говорили, стоит семь копеек. Пахнет ликва гофманскими каплями, от нее дух захватывает и как будто насквозь пронизывает человека. Прельщает в ликве то, что нужно, в противоположность пиву, немного ее, чтобы человеку совсем обалдеть. Торгуют ликвою тайно. Привозят ее главным образом жиды из Варшавы, из Лифляндии. В большом употреблении и другая отрава, привозимая евреями тоже тайно, - именно, сахарин. Крестьяне сыплют сахарин прямо в самовар и пьют эту ядовитую сладость без конца. Проявляй у нас более внимания к народной жизни правительство, агенты его, вероятно, давно бы подметили эти операции гг. евреев с ликвой и сахарином, и мне не пришлось бы писать об отравах, вошедших уже в обычай.
Любопытно, до какой степени евреи опутывают труд народный даже в губерниях по эту сторону "черты оседлости". У одного деревенского сапожника вижу две пачки шпилек - деревянных гвоздиков, которыми подбивают подошвы.
Несмотря на обилие леса, которого здесь девать некуда, сапожных шпилек местные люди не умеют делать. Приходится покупать их в чухонщине, с немецких фабрик. "Есть, - жаловался мне сапожник, - шпильки еврейского приготовления, но представьте себе - оказываются ольховые вместо березовых! Ломаются, и подошвы отлетают". И тут, стало быть, начиная с подошв христианских, еврей дает себя знать. Особенно тяжела еврейская лапа для трудящихся крестьян, покупающих землю. Облюбовал, например, крестьянин пустошку или усадебку у прокутившегося барина. Надо, скажем, восемь тысяч заплатить, а скоплено всего две тысячи. Приходится обращаться в банк, просить денег под залог земли. Еще до учреждения Крестьянского банка еврейские банки начали свои операции по этой части и успели забрать громадное количество земель. Наголодавшись на наделе, крестьянин думает, что стоит ему купить полсотни десятин - и он барин. На деле выходит не то. Начать сразу интенсивную культуру мужик не может: нет ни оборотного капитала, ни инвентаря, ни подходящих знаний. А трехполье едва-едва выгоняет ему проценты в банк, причем каждый год обыкновенно мужик платит пени, не будучи в состоянии поспеть в срок. Чуть запутался мужик, пеня нарастает. Идут годы, десятилетия, а мужик все платит, да платит евреям и никак расплатиться с ними не может. Нужды нет, что еврей отгорожен чертой оседлости. Он и оттуда достает зазевавшегося русака - будь то мужик или барин...
О деревне хотелось бы говорить без конца: ведь это тело России, ее плоть и кровь. Но что ж говорить? "И погромче нас были витии", да что толку. Чувствуешь громадный стихийный процесс, остановить который едва ли вообще в человеческих силах. Была консервативная пора, когда все складывалось так, что людям хотелось достигать, накапливать и сохранять. Сто тысяч трудовых дворянских хозяйств точно гвоздями приколачивали культуру к полудикой земле и оберегали ее богатства. Хорошие помещики очень берегли свое добро, берегли леса от порубок, озера и реки от истощенья, берегли землю от выпашки, берегли народ от пьянства и беспутства. В этом и состоял тогда консерватизм. Теперь огромные некогда леса погублены евреями. Озера и реки опустошены. Поля повыпаханы. Народ опустился и опаршивел простите за выражение, оно сельскохозяйственное.
Как паршивеет и вырождается скот на плохом корму, так и народ. В результате падения крепостного права через 50 лет после его отмены вы видите ограбленную природу и опустошенного человека. Одичание деревни идет, мне кажется, большими шагами. Как его остановить - придумать трудно. Правительство собирается вводить всеобщее обязательное обучение и финансировать народный труд. Но за эту поездку в деревню я еще раз убедился, что ни школа, ни капитал не возрождают крестьянина при теперешнем его душевном складе. Школа не спасает народ ни от пьянства, ни от лени, ни от невежества: она только обостряет социальное недовольство и плодит претензии. Капитал для нынешнего крестьянина (за редким исключением) ни к чему. Видел я и нескольких кулаков, то есть крестьян с деньгами. Только и умеют, что пивную открыть либо лавочку, где хищничают вовсю. Денег много, а то же остается хамство, почти та же грязь и никакой попытки вложить деньги в культуру, в организованное производство. Богатый мужик осуществляет лишь то, о чем мечтает бедный: вволю водки, селедки, чай, пуховик, баба, хорошая пара лошадей на выезд - и больше ничего. Растущий капитал пускается в дальнейший рост, а хозяин, оплывающий жиром, сидит на лавке в калошах на босую ногу, зевает да ждет мух в свою паутину. Таков богатый мужик - за редкими, повторяю, исключениями. Если бы все мужики вдруг разбогатели, Россия все равно была бы пропащей страной. Не в хлебе едином нуждается Россия!