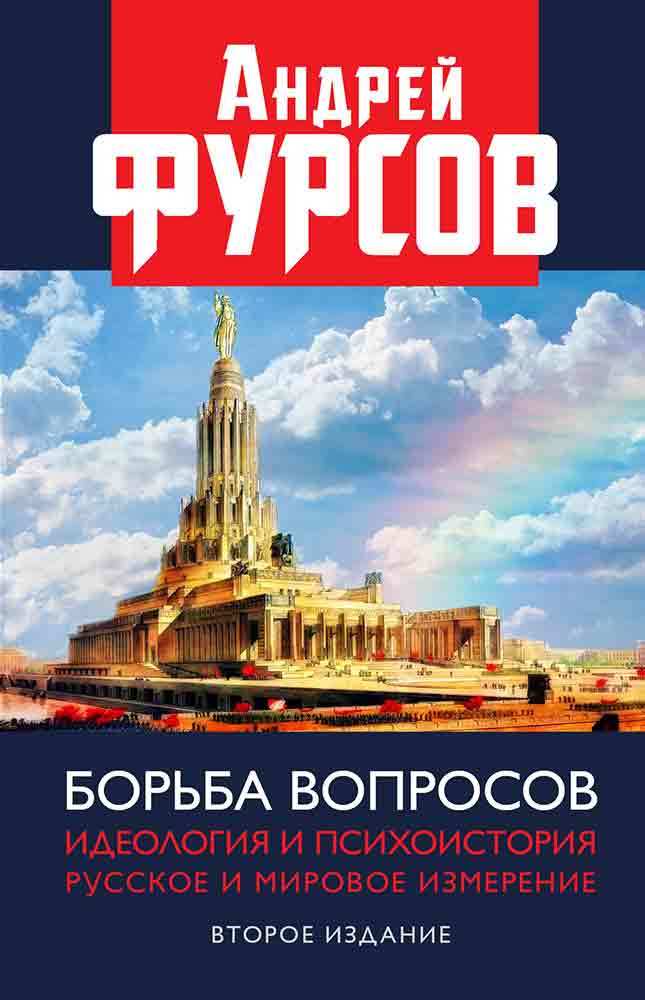хорошо» («небо ясное, ветер тёплый, солнце к ночи за Чёрные горы садится») хочется ответить по старогайдаровски: «Да что-то нехорошо… будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит… Будто пахнет ветер не цветами с садов, не мёдом с лугов, а пахнет то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов».
Не надо впадать в панику, но не стоит также расслабляться и поддаваться «синдрому Сидония Аполлинария»; много лучше правило: «Не who is alarmed is armed» («Кто предупреждён, тот вооружён»).
И с этой точки зрения очень полезно вспомнить «Манифест Коммунистической партии». Вольно, зная исторический результат и будучи крепкими задним умом, иронизировать над «Манифестом». Однако если отвлечься от частного и конкретноисторического, обусловленного периодом середины XIX в. (плюс-минус двадцать пять лет), то эта работа фиксирует очень простую, важную и правильную мысль: общественная жизнь, история – это борьба. Не обязательно классов, как подчёркивали Маркс и Энгельс, но и классов тоже. Не обязательно непосредственная и явная, но – борьба.
Марксоэнгельсовский тезис о борьбе обусловлен всей логикой и динамикой европейского развития, начиная с античности. «Борьба – отец всего», – эту формулу Гераклит вывел задолго до основоположников марксизма-ленинизма. Это не значит, что вне Европы не было борьбы, отнюдь нет. Речь о другом – о том, что в европейском потоке развития борьба носила субъектный характер, боролись не столько элементы системы, сколько различные субъекты. А потому борьба здесь фиксировалась именно как столкновение субъектов и сама в качестве процесса воспринималась как субъект и была таковым. Революция есть имманентная форма развития европейского исторического субъекта [126], на великие социальные революции приходится 20–25 % длительности европейской истории. И в этом смысле Маркс и Энгельс были правы в общей констатации для прошлого, настоящего и обозримого будущего: социальная жизнь, история – это по преимуществу борьба как в узком, так и в широком смысле слова. Так было и так будет. Иного – не дано. Точнее, иное – это для тех, кто готов обманываться, кто боится взглянуть в глаза истине, у которой болезнетворен не только дух, но часто и внешний вид. «Манифесту» нельзя отказать в смелости, в радикализме, т. е. стремлении в познании идти до конца, до сути вещей. Без этих качеств, помимо прочего, и реализация одиннадцатого тезиса Маркса невозможна.
Следовательно, в том, о чём писали Маркс и Энгельс в «Манифесте», можно выделить две стороны. Одна – это борьба классов, пролетариат как подлинно революционный класс, как могильщик буржуазии, как такой социальный агент, который носит подлинно мировой, интернациональный характер. О том, как эти оценки и основанный на них прогнозы соотнеслись с исторической реальностью, мы уже говорили. Ответы Маркса и Энгельса на поставленные вопросы оказались в целом неточными.
Другая сторона «Манифеста» – это не столько ответы, сколько сами вопросы, их постановка в самом общем, абстрактном виде. Это вопросы о принципиальной возможности наёмных работников освободиться от хватки Капитала и Государства, вырваться из-под «железной пяты» Социальных Хозяев; о позиции интеллектуалов в борьбе эксплуатируемых и эксплуататоров и – шире – в социальных конфликтах эпохи, которые не сводятся лишь к борьбе по линиям эксплуатации и классовости. Ведь своим «Манифестом», помимо многого другого, Маркс и Энгельс по сути заявили (и на это почему-то не обращают внимания) проблему отношений в треугольнике «эксплуататоры – эксплуатируемые – интеллектуалы». И хотя для Маркса и Энгельса главными были два первые «угла» и проблема отношений между ними, самим актом написания «Манифеста Коммунистической партии» эти два человека – интеллектуал-фабрикант и просто интеллектуал – практически поставили проблему роли и места в социальной борьбе интеллектуалов, независимо от их конкретного выбора – решивших, как сами Маркс и Энгельс, связать свою судьбу с «революционным классом», за которым будущее, или, напротив, решивших этого не делать, а либо пошедших на службу к господствующим классам, либо вообще вышедших из социальной игры (в частную жизнь, в «социальный аутизм» и т. д.), либо выбравших какой-то другой путь.
Исчезли ли ныне все эти вопросы, о которых прямо или косвенно размышляли Маркс и Энгельс? Ушли ли в прошлое проблемы отношений эксплуатируемых и эксплуататоров, интеллектуалов и тех, у кого власть? Или, может, устарел вопрос об освобождении наёмного работника как социального типа? Возможен ли в принципе такой работник, социальные условия и практика которого будут объективно носить мировой, интернациональный характер? Возможен ли, есть ли такой социальный агент, которого Маркс и Энгельс увидели в пролетарии? На мой взгляд, эти вопросы заслуживают внимания. Они, коренясь в «Манифесте», носят далеко не манифестарный и не буржуазно-ограниченный характер. Труд и свобода – что может быть важнее этих слагаемых жизни? По сути это экзистенциальные вопросы. Вот и поразмышляем над ними применительно к нашей уже, а не к Марксовой эпохе.
В индустриальную эпоху мировой характер капитализма реализовался по линии производственных отношений, обмена (рабочей силы на овеществлённый труд), которые охватили весь мир. Что же касается самого производства, то оно сохраняло региональный, национальный характер: индустриальная система производительных сил возникла и долгое время концентрировалась в североатлантической зоне плюс (с конца XIX в.) ещё несколько очагов – но именно очагов. Это одно из главных противоречий капитализма: между мировым характером производственных отношений, с одной стороны, и национальным – организации производительных сил и государственно-политической структуры – с другой. Именно оно не позволило пролетарию, наёмному работнику индустриального, овеществлённого труда «приобрести весь мир», соединиться с пролетариями всех других стран и вымести капитал с земного шара, как это изображали у нас в политкарикату-рах в 1920-е годы. Кстати, и буржуазия в интернационализации тоже не очень преуспела. Шла борьба одних государственно-организованных социальных групп, прежде всего, буржуазий и пролетариатов, с другими. Борьба развивалась и по другим линиям, но эта – межгосударственная – оказалась главной, приглушив, оттеснив буржуазно-пролетарский антагонизм и не позволив пролетариям интернационализироваться, окрасив их цепи в национальные цвета, а в некоторых странах посеребрив цепи и сделав их просто более лёгкими. Поэтому все три Интернационала провалились, а роспуск Сталиным III Интернационала – Коминтерна – в 1943 г. зафиксировал ещё и то, что даже коммунистический порядок, включённый в межгосударственную систему капитализма, вынужден подчиняться её логике, действовать в соответствии с ней.
До тех пор, пока существовала региональноограниченная индустриальная система производства, пока реальным интегратором местных и региональных групп в мировые процессы оставалось государство (оно же – защитник этих групп на уровне мировой экономики), ни о какой денационализации-интернационализации наёмного работника, а следовательно, и его полной, в соответствии с логикой Маркса и Энгельса, революционизации речи быть не могло. Повторю: за революционных пролетариев Маркс принял как раз те