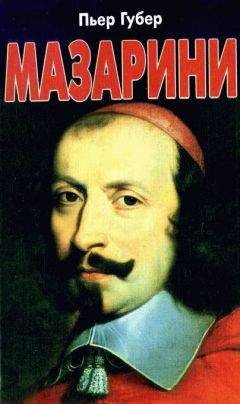Очень важным было прибытие в Париж, в 1644 году, небольшой группы римских священников во главе с отцом дель Монако, который исповедовал от министра до отца Биссаро. Этих феатинцев, неизвестных в Париже, строгих последователей святого Гаэтана, Мазарини мог встречать у Барберини, человека весьма терпимого в вопросах веры. Феатинцы, монахи с безупречной репутацией, славные миссионеры, которых Мазарини поселил на берегу Сены, напротив Лувра, помогали ему обойти опасное влияние иезуитов, которых он так хорошо знал (чтобы улестить иезуитов, он пригласил их духовниками к маленькому королю). Феатинцы, суровые и одновременно умные и изощренные (их главная церковь — Сант-Андреа делла Балле — всегда находилась в Риме, хотя среди монахов было много сицилийцев), преданные папской курии католики, четко следовавшие предписаниям Тридентского собора, были представлены королеве-матери. Она высоко их ценила, часто принимала у себя и дала согласие назвать грандиозную церковь, которую начали строить для феатинцев на левом берегу Сены (от нее почти ничего не осталось), именем Сент-Анн-ла-Руаяль — тонкая дань уважения самого близкого из ее великих слуг. Двору и столице пришлось принимать феатинцев со всей возможной любезностью, как, впрочем, и иезуитам (несмотря на скрытые противоречия).
Эта столь милая сердцу Мазарини атмосфера «всеримского» не мешала ему полностью посвящать себя (или почти полностью) делам королевства, которое он для себя выбрал, и регентше, которая выбрала его. Королева усилила его власть и одновременно увеличила доходы, назначив суперинтендантом своего двора (1644 год), а следом и главным воспитателем Людовика XIV (1646), — по-настоящему важное политическое решение.
Несмотря на некоторые ошибки (итальянские походы, глупая потеря важного союзника — Голландии), министр пять лет работал на победу и Вестфальский мир; затем последовало создание хрупких Прирейнских союзов, которым никто не придавал (или делал вид, что не придает) значения.
Больше того, многие недовольные и святоши упрекали Мазарини в том, что он помешал заключению единственно достойного мира с самым католическим из королей — испанским (в котором делалась ставка на слабость Франции, связанную с несовершеннолетием короля). Суть дела заключалась в том, что все — несколько тысяч людей — занимались в основном внутренними проблемами, разрешением конфликтов, интриг и денежного вопроса — подоплеки всех проблем.
Так начался жестокий кризис по имени Фронда — от названия детской игры, весьма, кстати, опасной, поскольку когда-то в нее играли неким подобием пращи (вспомним Давида и балеарских фрондеров, то есть метателей камней).
Финансовый дебют: как заставить парижан платить
Все, о чем мы коротко расскажем, — Фронда, Фронды, большие и малые, — сводится в конечном итоге скорее к амбициями, чем к идеям, причем к амбициям давним, неумеренным и неудовлетворенным, к денежным проблемам, хотя и не только к ним, к чувствам, в основном к ненависти, изначальной и новоприобретенной. То была ненависть к иностранцу, особенно к итальянцу, и ненависть к финансисту, конечно, мерзкому, низкому вору. Это двойное чувство, а вернее — двойная неприкрытая глупость, такая, которую отстаивают до хрипоты в голосе…
Невозможно передать, как сильна была нужда в деньгах, сколько усилий прилагалось, чтобы вставить платить провинцию, оказывавшую яростное сопротивление. Впрочем, провинция в конечном итоге была не слишком опасна. Огромный зверь, чудовище с 400 000 душ, где почти всегда решалась судьба королевства, — вот кто играл первую скрипку…
Здесь жили скученно, а теснота обычно хорошо помогает разобраться в происходящем, в том числе стремительно распространяющиеся слухи и страсти. Около тысячи жителей на гектаре площади, дома, вытянутые вверх, где башмачник живет рядом с финансистом (мастерская внизу, полунищета наверху, богатство на этаже аристократа), а крыши почти соприкасаются над улицами и улочками. Пресловутая вонючая грязь, покрывающая будущие мостовые с текущим посередине ручейком, куда выливаются через окна все помои. Повсюду лавки и молочные торговцы, толкотня разносчиков воды, лакеев, простолюдинов, чопорных буржуа, кареты и телеги проезжают, где попало… Сена, с ее четырьмя портами (лес, вино, сено, зерно), забитыми лодками и шхунами, они кормят и… утоляют жажду (с помощью сотни кабачков, конечно). Короче говоря, в городе, обнесенном стенами, за воротами, которые сторожа каждый вечер запирают на засов, шумящий люд — разбойники и гарцующие верхом вельможи; все друг друга знают, каждый любит и умеет поговорить, болтают всюду — в лавочках, на перекрестках, перед соборами, на мостах, на берегах реки, на рынках и кладбищах.
Видимость беспорядка: люди объединены в приходах и религиозных братствах, в цехах и кварталах. Кварталов шестнадцать, буржуазная «милиция» выполняет работу полиции, население каждого квартала объединено в группы по пятьдесят и десять человек, они избирают — не самым прямым путем — мелких начальников, чаще — чиновников, иногда — членов парламента; существуют стихийные объединения соседей, завсегдатаев кабачков, покупателей маленьких рынков. Итак, толпа хорошо структурирована, но ее части переплетаются, на них оказывают влияние и видный парламентарий, и блестящий дворянин, и красноречивый кюре. Толпа — лучшая питательная среда для распространения слухов и организации беспорядков. В самом сердце города — дворец маленького короля, его часто видят играющим в садах Тюильри или весело скачущим на своем маленьком белом коне, но рядом всегда двое проклятых иностранцев…
Больше всего не выносят сицилийца, этого высокопоставленного мошенника, его приспешника Патричелли, их сторонников, банкиров, сборщиков непомерных и несправедливых налогов…
Да, Париж уже тогда был (и остался) одним из тех городов королевства, за которым нежнее всего «ухаживали», но сам он об этом не подозревал, каждый парижанин утверждал прямо противоположное те, кто был недоволен или имел личный интерес, раздували пожар недовольства, в том числе парламентариями, наживавшими популярность и вербовавшими сторонников, не платя ни сантима и не забывая о собственных притязаниях.
Королевство все так же нуждалось в деньгах, провинции настойчиво просили помощи, и, хотя в столице жило более 2% подданных короля, она владела почти четвертью (если не больше) богатств страны (движимость, недвижимость, финансы, товары…) и ей приходилось вносить свою лепту. К принуждению Париж относился как к агрессии, к покушению на собственные права. Правительство порой совершало ошибку (но был ли у него выбор?), формулируя свои притязания слишком жестко или, напротив, легковесно, но настойчиво.
Первая атака налоговой администрации
В первое время Партичелли д'Эмери, которому Мазарини доверил детальное проведение операций (у кардинала были другие дела, и он не вникал в тонкости дела), давил на тех, кто был привычен к принуждению, на рантье. В большинстве своем рантье были парижанами и буржуа (впрочем, не только). Их история начиналась в эпоху Франциска I, но с тех пор серьезно обогатилась.
В 1522 году королевство, уже тогда нуждавшееся в деньгах, решило провести заем среди подданных. Не пользуясь финансовым доверием, оно задумало сделать гарантом первого займа Парижскую ратушу (короткое время гарантом была Тулузская ратуша): первая процентная ставка составляла «денье 12» (100:12 = 8,33%), общая сумма не превышала 2,5 миллионов. Дело пошло так хорошо (для короля и, конечно, для рантье), что дети и внуки Франциска I выпустили более 70 заемных эмиссий (с процентной ставкой, имевшей тенденцию к снижению: от 8 до 5%). Ришелье так усердствовал, что после его смерти годовые проценты к выплате составили почти двадцать миллионов. Очень скоро государство решило платить позлее назначенного срока, нерегулярно, другими бумагами — обесцененными, или совсем не платить. Чиновники осмелились даже предложить рантье платить им ценными бумагами, так сказать, будущего, то есть тем, чего в реальности не существовало. Впрочем, чаще всего выплаты просто задерживались: в 1637 году задержка составила в среднем 12 месяцев, а в 1647 — три-четыре месяца, в зависимости от категории ценных бумаг. Если государство случайно выплачивало некоторые ренты, это всегда сопровождалось уменьшением капитала, попавшего когда-то в его казну.
Такая практика — конечно, достойная осуждения, но не оригинальная — была нехороша в основном тем, что Париж был главным рантье государства (чем-то вроде доверчивого человека, пользовавшегося некоторыми преимуществами за счет сделок с недвижимостью, ибо ценная бумага стоила мешка экю). Выплаты — теоретически поквартальные — производились в ратуше, техника была сложной (в числе прочих сложностей назовем алфавитный порядок), выплаты осуществлялись кучкой продажных чиновников, не спешивших выполнять свои обязанности прожженных хитрецов. «Плательщики ренты» (Кольбер-старший был одним из таких не слишком честных чиновников) находились под надзором «контролеров ренты». Всем этим чиновникам, имея в виду их склонность к мошенничеству, на четверть понизили жалованье. Совершенно очевидно, что все правительственные хитрости уменьшали расходы государства, но не увеличивали доходов; главное, однако, заключается в том, что рантье время от времени проявляли недовольство, стекаясь к дверям «плательщиков ренты», к ратуше. Они протестовали, крича, жестикулируя, собирая вокруг толпу и угрожая. Иногда приходилось посылать гвардию, милицию и даже солдат, но с каждым разом делать это становилось все труднее. Рантье (подобно некоторым чиновникам финансового ведомства) решили объединиться в «союз», чтобы защищать свои права и доходы. Находчивый коадъютор Гонди, прирожденный подстрекатель, нашел даже способ «украсить» титулом «синдикарантье» своего секретаря и аколита Ги Жоли, умело подогревавшего страсти. В пестрой толпе можно было встретить слуг и водопроводчиков, важных буржуа и дворян, например Севинье, — славная пехота для будущих бунтов. Опоздания, невыплата денег и «смута» усилились к осени 1648 года, но это не наполнило королевскую казну. Слишком хитрый Партичелли, которому Мазарини как будто позволял делать все, что угодно, пытался наилучшим образом «ободрать» парижан.