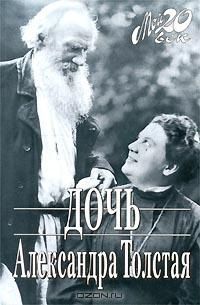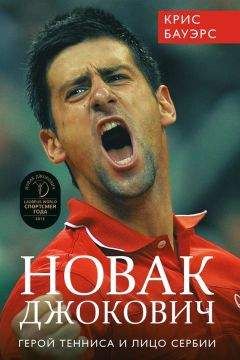Я знала, что Никитка Гущин - практичный, пронырливый малый, но чтобы Гущин тотчас же после ухода из Ясной Поляны заделался ярым коммунистом - я не ожидала. Я была поражена, когда встретила Гущина в Тульском губисполкоме, причесанного, припомаженного, в новеньком, с иголочки костюмчике, в лаковых сапогах.
- Гущин?!
- Не узнали? Я, знаешь, теперь в губисполкоме работаю.
- Да? В качестве кого же?
- Рабкор. Статейки пишу для "Тульского коммунара". Загляну как-нибудь и к вам.
Тон его был снисходительно-покровительственный.
К счастью, я быстро поняла тогда всю глупость организации этой псевдотолстовской коммуны. Я посоветовалась со служащими, и так как надо было все-таки создавать какую-то коллективную организацию и на жалованьях наркомпроса прожить было невозможно, мы решили организовать сельскохозяйственную артель служащих.
"Братья" уехали. Только несколько человек застряли. В общежитии остались пустые грязные койки, разорванные бумажки да на стене моя карикатура: я пускаю мыльные пузыри, пузыри - школа, музей, больница, народная библиотека разлетаются во все стороны и лопаются.
Теперь мне кажется непонятным, зачем нам в Ясной Поляне понадобилась толстовская коммуна. Должно быть, надо было противопоставить управлению Оболенского коллективную организацию. Возможно, что именно толстовская коммуна в то время послужила некоторым буфером против марксистского влияния на Ясную Поляну, и это было необходимым этапом для перехода к более осмысленной opганизации.
Конечно, можно было не спеша подобрать дельных толстовцев и наладить работу, но беда заключалась в том, что надо было спешить, так как совхоз уничтожался и некому было передать хозяйство.
Вот в это время и появился Митрофан. Никто не знал eгo фамилии, отчества, и все так просто и звали его Митрофаном. Откуда он взялся, кто порекомендовал его - не помню. Говорили, что он сильный, но своевольный человек, прекрасный организатор, что он раньше устраивал, и очень удачно, толстовские коммуны. Такого-то нам и надо было. Митрофан обещал набрать "хороших ребят" в коммуну, и по молчаливому согласию решено было сделать его уполномоченным коммуны.
Митрофан был мне антипатичен, но я сама себя убеждала, что была несправедлива. "Глупо, - думала я, - ведь мне не нравится в нем чисто внешнее: не нравится, что такой здоровый, большой мужик говорит тонким, сдобным, с мягким украинским акцентом голосом, не нравится отлив маслянистых глаз, не смешное, по привычке, похохатывание".
С первых же шагов Митрофан разочаровал нас. В то время как мы с Сухотиным разрывались на части, Митрофан был безучастен к нашим делам, только жаловался на трудности создавшегося положения.
А трудностей действительно было много. Население Ясной Поляны встретило новые порядки враждебно. Оболенский с семьей, часть его помощников должны были потерять должности и уехать. Яснополянские крестьяне лишились обрабатываемой ими исполу земли.
23 апреля того же года вышел ленинский декрет о новой экономической политике. Выдача пайков от государства должна была прекратиться. А между тем деньги были обесценены, жалованья до смешного маленькие. Яснополянцы волновались и во всем, разумеется, обвиняли меня: не успела, мол, Александра Львовна взять хозяйство в свои руки, как нас всех лишили пайка. Вспоминали батюшку-благодетеля, при котором даже конфеты монпансье, шоколад и туалетное мыло было. Многие жалели Оболенского.
Встречая злобные взгляды, насмешки, угрозы, Митрофан струсил, даже уверял меня, что преданные Оболенскому молодые люди хотят его убить. Он сидел на запоре в павильоне в саду, прозванном Булгаковым виллой Торо, и никуда не ходил.
То и дело приходилось ездить в Москву. Надо было закончить все формальности в наркомпросе и наркомземе, найти новых сотрудников, достать денег на организацию школы. А тут случилась еще неожиданная беда. Вернувшись из Москвы как-то в начале августа, я узнала, что весь урожай: сено, рожь, овес - проданы старым управлением. Не только в амбаре, но и в полях - все было чисто. И я осталась с полной усадьбой людей и животных без какой-либо возможности их прокормить.
Обострять отношения с прежней администрацией не хотелось, и так преданная Оболенскому молодежь держалась вызывающе. Митрофан даже уверял, что, когда он пошел вечером за яблоками, - в него стреляли. Что было делать? Я чувствовала, что надо было как можно скорее налаживать хозяйство, но, с другой стороны, нельзя было и откладывать вопроса о продовольствии.
* * *
Верхние торговые ряды. Полупустые холодные, грязные магазины, конторы. Кое-где копошатся люди, точно мародеры, хозяйничающие в захваченном городе. Тыкаюсь в двери, на дверях наставлены бесконечные номера.
- Нет, нет, не туда попали, товарищ, третий ряд налево. Номер... Там и спросите товарища Халатова.
Наконец нашла.
Армянское серовато-матовое лицо, громадные, с поволокой, черные бараньи глаза, правильно очерченный рот, длинные черные волосы, выбивающиеся из-под расшитой фески и кудрями рассыпающиеся по плечам, черная бархатная блуза (почему-то подумалось: наверное, такая была у Оскара Уайльда). Дети обычно спрашивают про таких: "Мам?, это что - человек или нарочно?"
Но это было совсем не нарочно, а человек, кормивший или долженствующий кормить всю Россию: народный комиссар по продовольствию товарищ Халатов.
- Вы ведь знаете, - сказал он мягко, - что все государственные учреждения переходят теперь на самоокупаемость, пайки выдаваться больше не будут и народный комиссариат по продовольствию будет ликвидирован. Но у нас есть небольшие остатки, и мы можем вам кое-что выдать.
Он взял карандаш.
- Ну, что вам нужно? Муки, сахара, круп? Фасоли американской хотите?
- Спасибо. А еще соль нам очень нужна, капусты много, а квасить нечем.
- Соли? Нет, соли дать не могу, нету ее у нас. А вот что: осетров хотите?
- Осетров?! - я посмотрела на него с изумлением. Если бы он предложил мне горсть золотых, я, вероятно, удивилась бы не меньше.
Он усмехнулся.
- Ну да, осетров, свежих осетров хотите?
Сухотин меня ждал.
- Ну что? Получила что-нибудь?
- Два вагона разного продовольствия, - ответила я с гордостью, - и с десяток осетров с меня ростом в придачу!
Теперь надо было хлопотать о получении вагонов для перевозки, и я опять пошла к Калинину. Слова "пошла к Калинину", "пошла к Халатову" звучат легко и просто. На самом же деле проникнуть к комиссарам было трудно. Приходилось несколько раз звонить секретарям, получать пропуска, иногда ждать днями, неделями. Советские сановники часто уезжали в командировки, заседания сменялись заседаниями. Иногда просто не хотели принимать. В этот приезд мне все удавалось легко: Калинин меня принял.
- Ну, как дела в Ясной Поляне?
Я рассказала ему про затруднение с продовольствием и как Халатов нас выручил.
- Вот только соли не дал...
- Ну, этой беде я, кажется, смогу помочь, - сказал староста, - недавно ездил на юг, прихватил с собой на всякий случай вагон соли. Погодите-ка.
Он взял клочок бумаги, подумал и написал: "Выдать А.Л.Толстой для Ясной Поляны 20 пудов соли".
- Хватит?
- Хватит, спасибо!
Так и велась у нас эта соль года три - чистая, белая, нигде нельзя было такой достать, и называлась она калининской.
- Ну, как коммуна ваша? Работают?
- Да нет еще, уполномоченный наш как будто немного растерялся...
- Простите меня, - вдруг неожиданно буркнул председатель ВЦИКа, связались вы с ними, а ведь сволочь эти толстовцы, мягкотелые.
Я молчала. Ни поддерживать, ни спорить с ним мне не хотелось.
От Калинина я поехала в наркомпуть к Рязанскому вокзалу хлопотать о вагонах. Все было так сложно и трудно. Наконец все было устроено, и мы погрузились на Москве-Товарной. В то время воровство на железных дорогах было отчаянное. Ухитрялись разворовывать даже запломбированные вагоны. И мы с Сухотиным решили сами провожать свой драгоценный груз до Ясной Поляны. С нами поехала подруга моей племянницы, 15-летняя дочь профессора Грузинского.
Тронулись мы из Москвы, доехали до Люблина и стали. Заснули на мешках с фасолью, проснулись утром - стоим. Пошли к начальнику станции. К вечеру обещал отправить. Распороли мешок с фасолью, на станции сварили, пообедали, пошли гулять, выкупались. Легли спать, наутро проснулись, опять стоим в Люблине, уже на запасном пути. Делать нечего. С первым встречным поездом я поехала обратно в Москву в наркомпуть. С трудом добилась начальства. И каких только доводов я не приводила, прося отправить нас как можно скорее: поминала и Калинина, и Халатова, и осетров. Отсюда меня направили в управление Московско-Курской железной дороги, потом еще куда-то... Мы двинулись только на третий день к вечеру. Доехали до Серпухова, опять остановка. Какие-то коммунисты пробовали аэродрезину между Серпуховым и Тулой, разбились, и путь оказался загроможденным. В вагоне духота. Подумали мы с Сережей, засучили рукава и начали осетров изнутри натирать калининской солью. Полдня работали, руки разъело в кровь. Осетров то и дело нюхали, ничего, не пахнут.