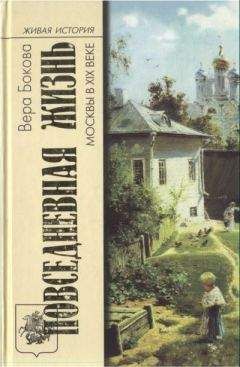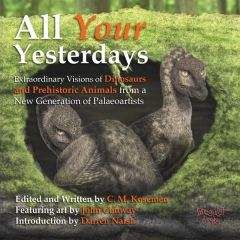Трактиры могли быть как роскошные, так и недорогие, рассчитанные на всякий вкус и кошелек Существовали трактиры актерские, студенческие, для извозчиков и домашней прислуги, трактиры, в которых собирались книголюбы и букинисты, ювелиры и антиквары, охотники, лошадники или любители птичьего пения, захудалые заведения для городской бедноты. У Никитских ворот одно время был трактир «Керехсберг», где бывали почти исключительно иностранцы-гувернеры. В Охотном ряду имелся лакейский трактир, в котором слуги, проводив своих господ в театр или Собрание и забрав с собой их шубы, приятно проводили в хорошей компании часы ожидания. Сюда же охотнорядские мясники и зеленщики приводили угощать обедом барских поваров и управителей, которые закупали у них провизию в надежде на продолжение сотрудничества.
Женщин на протяжение почти всего века в трактир пускали только в отдельные кабинеты. В первой половине века порядочные женщины вообще бывали в трактирах крайне редко и стали бывать чаще лишь после 1860-х годов, по мере развития женской эмансипации. Уже годах в 1870-х утвердилось обыкновение после театра ездить ужинать с женами и друзьями в отдельные кабинеты — обычай, который долго удивлял чопорный Петербург. Бывали дамы и на парадных обедах и банкетах — юбилейных или именинных, если для этого снимали зал хорошего трактира. В остальных случаях в общий зал женщины (за исключением трактирной обслуги) не заходили. Даже с постоянно «сидевшими» в некоторых трактирах особами легкого поведения желающие могли увидеться только в кабинетах. Нарушалось это правило лишь в самых низкопробных местах, куда вообще пускали кого угодно — и босяков, и алкоголиков, и спивающихся проституток.
Трактиры бывали трех разрядов (первый — высший). В 1820–1830-х годах издававшиеся правительством «Положения о трактирных заведениях и местах для продажи напитков» предписывали именовать перворазрядные трактиры «ресторациями», но, несмотря на смену вывесок слово это в Москве не прижилось. Еще имелись внеразрядные простонародные заведения, пропахшие прокаленным маслом, водкой и луком, в которых, впрочем, все было, «как у больших»: имелись для развлечения бильярд и «волчок», вечерами какие-нибудь девицы в красных платьях пели романсы, вроде: «Он тиран-тиран, вор мальчишка, он не любит, вор, меня», а на буфетной стойке красовались калачи, сайки, баранки, дешевая колбаса, студень, вобла, капуста, огурцы, рубец — скатанный и обвязанный веревкой желудок, севрюжья голова, вареная печенка и прочие деликатесы. В наиболее дешевых из простонародных трактиров можно было наесться досыта на 5–6 копеек, заказав на 2 копейки щей, на копейку хлеба и на 2–3 копейки «мяса» самого низкого сорта — щековины или рубца.
Следует сказать, что даже в самых распоследних трактирах обязательны были две вещи: безупречной белизны костюмы половых, а также столы, покрытые скатертями. Скатерти эти в низовых заведениях могли быть и рваными, и неделями не переменявшимися, но наличествовали всегда. Есть за голым столом истинный москвич нипочем бы не стал.
Красотой интерьеров большинство московских заведений не блистало. Скорее, типична была картина, описанная современником: «Довольно грязная, отдававшая затхлым, лестница с плохим узким ковром и обтянутыми красным сукном перилами вела на второй этаж, где была раздевальня и в первой же комнате прилавок с водкой и довольно невзрачной закуской, а за прилавком возвышался громадный шкаф с посудой; следующая комната — зала была сплошь уставлена в несколько линий диванчиками и столиками, за которыми можно было устроиться вчетвером; в глубине залы стоял громоздкий орган-оркестрион и имелась дверь в коридор с отдельными кабинетами, т. е. просто большими комнатами со столом посредине и фортепьяно. Все это было отделано очень просто, без ковров, занавесей и т. п., но содержалось достаточно чисто: про тогдашние трактиры можно было сказать, что они „красны не углами, а пирогами“»[161].
В заведениях, претендующих на роскошь, были плюшевые портьеры, «хрустальные» люстры с висюльками, зеркала, аляповатая лепнина, иногда и росписи или картины в броском, «трактирном» стиле. Встречались, конечно, особенно во второй половине века, и по-настоящему хорошо, даже художественно, оформленные места.
Во всяком трактире, помимо отдельных кабинетов, имелось как минимум два зала, иногда на разных этажах. Первый назывался «дворянским» или «коммерческим» — он был почище или пороскошней и цены в нем были повыше. Второй зал звался простонародным, «русским», «черным» или почему-то «можайкой» В третьеразрядных заведениях встречались еще отделения для извозчиков, обычно расположенные ближе ко входу (простые смертные зайти в это отделение тоже могли), но в большинстве случаев извозчики просто имели собственные, специально для них предназначенные трактиры.
Отличием такого извозчичьего трактира от обычного был двор с колодами, возле которых отдыхали и ели лошади. «В помещении для извозчиков был так называемый „каток“, т. е. будка-стойка, где какой-нибудь отставной солдат или выжига-мещанин торговал „от себя“ закусками самого низкого сорта: печенкой, легким, рубцом и т. п. Водкой в катке не торговали, ее продавали в настоящем буфете, расположенном обыкновенно на видном месте, против или около входной двери. Здесь, за стойкой, уставленной закусками и разной величины стаканчиками, стоял приказчик, который цедил водку, по желанию покупателя, в тот или иной по величине и по цене стаканчик. Цена стаканчикам, или, как их называли, „стакашкам“ („Эй, насыпь-ка мне вон тот стакашек!“) начиналась, кажется, с трех копеек и постепенно, согласуясь с величиной „стакашка“, все возвышалась и возвышалась»[162].
Вывески у большинства трактиров были синего цвета — тоже московская традиция, и в любом трактире, даже первоклассном, на входных дверях имелся блок с веревкой, к которой привязывался простой кирпич. Открывание двери сопровождалось пронзительным скрипом, а затем дверь сама с грохотом захлопывалась за посетителем.
Во всяком уважающем себя трактирном заведении выписывали для нужд клиентов одну или несколько газет — «Ведомости московской городской полиции», «Московский листок» и еще что-нибудь, а иногда и какие-нибудь журналы, которые мог взять почитать за обедом или чаем любой желающий. Для сведения любителей имелись в трактирах и театральные афишки, которые на протяжении значительной части девятнадцатого века печатали в малом, «карманном» формате. Во многих местах для желающих ставился бильярд.
Кроме того, трактирных посетителей услаждали еще и музыкой. В редком заведении не было собственного хора или певцов-одиночек, гармонистов, балалаечников, выступавших по вечерам. Некоторые подолгу работали в одном и том же месте и имели свой круг постоянных слушателей и поклонников из числа завсегдатаев. В московское предание рубежа XIX–XX веков вошло имя певца, выступавшего в средней руки трактире на Большой Бронной, недалеко от Тверской, — «Саша-хризантемы». Романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» был его коронным номером, и в заведение приходили специально, чтобы его послушать, пустить слезу и поднести артисту рюмку горькой.
Трактир «Милан» на Смоленском рынке славился в середине века хором песельников И. Е. Молчанова, который давал целые концерты в большом зале. Один из трактиров на Немецком рынке был знаменит запевалой подобного же хора Осипом Кольцовым. «Обладая превосходным тенором… Кольцов словно нарочно был создан для русской песни в простом изложении ее. Его „закатистые“ высокие ноты как нельзя больше шли к русской песне, и он обаятельно действовал на свою публику. А веселые песни он так выполнял со своим хором, что мурашки бегали по телу, причем он уснащал пение народными приговорками или сам тут же изобретал таковые. Кольцова не только любили, но прямо обожали. Он со всей страстностью отдавался песне, оттого-то она так и пелась у него, и лилась в русскую душу»[163].
Еще одного трактирного певца, пользовавшегося общемосковской известностью, звали Александром Власычем Фомичевым. Он пел в заведении на Смоленском рынке, играл на гармони и собирал множество слушателей. Е. З. Баранов записал о Фомичеве такой рассказ: «Вот это действительно был певец… Бывало, запоет „Белый день занялся над столицей“ или „Снежки белые пушисты“, так весь трактир затихнет. И голос звенит, за душу берет. И еще вот эта выходила у него хорошо: „Еду ль я ночью по улице темной“. Как запоет, так, я тебе скажу, редкий человек не плакал. Пел и деревенские песни, только с разбором. У него не было этого, чтобы под песню вприсядку пуститься, а пел он сурьезные песни, хорошие. А когда хозяину, трактирщику этому, Степану Никифоровичу, подходил срок запоя, сейчас поставит за кассу жену, а сам за столик с Александром Власычем сядет. А тот уж знал, чего ему требуется, запоет: „Полоса ль моя, полосонька, полоса ль моя непаханая“… Вот Степан Никифорович сидит, слушает, а слезы так и катятся по щекам. А сам весь седой. Ну, конечно, уже с хорошим зарядом, графинчик перед ним, закусочка… Поплачет, поплачет, и стукнет рюмочку. Ну, тут, знаешь, фасон такой был: вот, мол, я и хозяин, при деньгах хороших, всех вас купить могу, и старый такой человек, а вот плачу от песни. Ну, разговор в народе идет про это самое, а ему и лестно. И три дня так проканителится, сходит в баню и опять за буфет. Понятно, фасон один, а чтобы от души, так этого не было»[164].