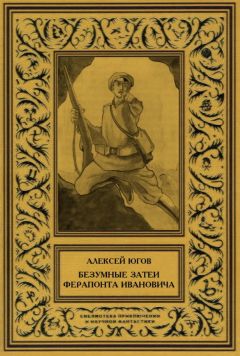С этими словами она быстро, и впрямь умело, заставила лошадь раскрыть пасть и глубоко показать зубы:
- Видели?
Костенька ничего не видел, но сказал - да. Тут же сознался в полном своем невежестве по конской части:
- А я думал: киргизская лошадь - она только в пристяжных ходит... вот как у Шатровых.
- А вы не думайте!
И тут уже она совсем осмелела:
- Вы знаете, какой у него бег? Ого! А сила какая, выносливость! Рысью я на нем тридцать - сорок верст могу сделать: я устану, а он никогда!
- Верочка, но ведь рысью, наверно, тряско? На иноходце спокойнее.
- А! Не терплю я иноходцев. Что я - попадья?!
И она, двигая ладонью вправо-влево, насмешливо показала, как покачивает всадника иноходец.
- А мой Киргиз - огонь, зверь!
- А не опасно? Сила же какая нужна - справиться с ним!
Она усмехнулась:
- Сила? А в кого мне хилой-то быть? Папаша мой на пари рублевики серебряные голыми руками ломает!
- Да что вы?
- Вот... А вы говорите!
И спохватилась:
- Что же это мы стоим? Мне времени терять нельзя: я сегодня же и обратно. Идемте.
- Как - идемте? Вы садитесь на свою лошадку.
- А вы?
- А я пойду рядом.
- Нет, так не годится. Пеший конному не товарищ.
На мгновение задумалась. Выход был найден:
- Костя! Он же очень сильный, он свободно выдержит нас двоих: хотите - в тороках?
Шатров был дома один. Поздоровавшись и отступя в сторонку, Костя сказал:
- А я вам гостью привел, Арсений Тихонович.
И тогда из полутемной прихожей в столовую выбежала Вера.
- Здравствуйте!
И, на мгновение окинув руками шею Шатрова, привстав на цыпочки, по-родственному его расцеловала в щеки. И отступила. И, зардевшись, потупилась.
Шатров, отечески, радушно улыбаясь, осмотрел ее с ног до головы.
- Совсем казачонок! Да-а, Емельян Пугачев от такого адъютанта не отказался бы! Ты одна?
- Одна.
- Так...
И ничуть не удивился: знал он ее, Верочку Сычову, - знал еще, когда она под стол пешком ходила, а со временем, как, впрочем, все близкие к семье Сычовых, успел привыкнуть ко всем ее мальчишеским выходкам.
- Ну, адъютант Пугачева, раздевайся, садись, отдыхай. Я распоряжусь насчет обеда.
Костя хотел попрощаться и уйти. Шатров ласково положил ему руку на плечо и удержал:
- Да полно тебе, успеешь. Не велика, там работа! А мне сейчас все равно надо сходить на крупчатку: как там н о в ы й-т о у меня? А ты позанимай гостью. Через час - обед.
Он вышел в прихожую, но тотчас же вернулся, уже в темной шляпе с большими полями и в кожаной распахнутой куртке, - вернулся, чтобы спросить:
- А как же тебя из гимназии отпустили?
- Захворала мамаша. Меня и отпустили на несколько дней. Начальница у нас строгая, но она очень добрая.
Заодно объяснила, что примчалась она к Шатровым за Никитой Арсеньевичем. Посылали нарочного сперва в Калиновку, в больницу, сказали, что уехал. А нарочный - бестолковый: не спросил даже, куда уехал.
- Никита - в городе. Ольга Александровна срочно вызвала его на консультацию в госпиталь свой. Ну, а о Сергее, о Володе ты знаешь: там, где им надлежит быть.
В этих словах Арсения Тихоновича Вера ощутила упрек.
Он ушел.
Она легкой ступью, чуть прискальзывая на цыпочках, пронеслась по всем комнатам, из двери в дверь, будя голосом эхо пустынного и по-осеннему светлого зала. Раскрыла рояль, прошлась пальчиками по клавиатуре и вдруг загрустила.
- Костя, пойдемте в сад, к н а ш е й ветле.
В саду пахло осенью. Студеный Тобол голо и хмуро, жестким каким-то блеском просверкивал сквозь поредевшую листву тополей: словно бы недоволен был, что вот смотрят, как стынет, стынет он, готовясь скрыться под ледяным, зимним своим покровом.
Они - у своей ветлы.
- Костя!
- Да?
- А помните, как вы качали меня на этой ветле и как мне влетело из-за вас от мамаши.
- Помню, Верочка.
- Костя...
- Да?
- А ведь, возможно, мы с вами видимся в последний, в последний раз!
У бедняги заныло сердце.
- Верочка, это почему?
Покачивая "их" ветку, она молча смотрела вдаль, давая глазам своим наполниться слезою. Потом сказала голосом обреченности:
- Я не вернусь в гимназию.
Он переменился в лице:
- Почему?! Верочка... а куда же вы? Что же вы хотите сделать?!
Она печально взметнула брови.
- Я... ухожу на фронт... Буду сестрой милосердия.
В Калиновке, заехав сразу на квартиру к Матвею Матвеевичу Кедрову, Костя не застал его дома: писарь работал в волостном, хотя день был и неприсутственный - воскресенье.
На стук железным кольцом в калитку наглухо запертых ворот вышла на пустынно-песчаный, поросший мелкой, кудрявой травкой заулок сама хозяйка - вдовая попадья, а теперь просвирня калиновской церкви, Анфия Петровна - седая уже, грузная женщина, с пытливым, настороженным взглядом.
Но, узнав Костю - одного, так сказать, из шатровских, - она встретила его приветливо и даже проявила необычайную словоохотливость:
- В волостном, в волостном он, батюшка наш Матвей Матвеич. Я и то говорю ему однажды: "Видать по всему, Матвей Матвеич, вы есть человек верующий; а ведь в воскресенье-то работать грешно: седьмой же день, говорю, господу богу твоему!" А он мне: "Это, дескать, в Ветхом Завете сказано; а что Христос сказал, когда укорили его фарисеи, что зачем он исцеляет в субботу: что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Чтите, говорит, сие, Анфия Петровна, в Евангелии от Луки". И даже стих сказал какой! Я прямо-таки дивлюсь такому человеку: я вот священнослужителя, иерея, вдовая жена, а и то не помню, где что сказано. А он, писарь волостной, человек интеллигентный, и, смотрите вы, всю Библию чуть не на память знает! "Так вот, говорит, у меня в воскресенье - солдатский день: пособие выдается солдатским семьям. Потому что в будний-то день народу и вздохнуть некогда: сами знаете. Авось, говорит, Анфия Петровна, не осудят меня на том свете за это, а? Как вы думаете?" Ну, где ж там осудить такого человека!
Голос просвирни пресекся от растроганности, и она смолкла.
Костя терпеливо ждал, когда она отпустит его. Но она сочла нужным поведать ему и про другого своего жильца, прежнего, который, подобно Кедрову, снимал у нее весь верх полукаменного ее дома, но уж совсем, совсем был другой человек. Она и до сих пор не могла простить ему обиды, которые он наносил ей.
Это был фельдшер больницы, человек семейный: жена и трое детей малых.
- Дак вот, не понравилось ему, что у меня там, в паратной комнате, на кивоте - вот увидите сами - икон уж очень много понаставлено. Да еще и лампадка неугасимая, и днем и ночью: по обету. "Что, говорит, это, Анфия Петровна, уж очень много богов-то у вас наставлено, нельзя ли сократить некоторых? Да вот и лампадка ваша: не можете ли вы ее к себе перенести? Ведь сколько она кислороду-то пожирает, а у меня здесь детки спать будут!" Ах, ты, думаю, чемер бы тебя взял! Да в ту же зиму ему и отказала: "Извольте искать другую квартиру!" - "Да где ж я ее найду? Таких домов, как ваш, говорит, во всей Калиновке больше нету. Что же вы меня среди зимы, можно сказать, на снег, и с малыми детьми, выгоняете!" А я ему: "Ну, ин там ки-сло-о-ро-ду много!"
И она в лицах изобразила перед Костей весь свой разговор с фельдшером-вольнодумцем.
- Ну, а Матвей Матвеевич?
Просвирня даже глаза закатила и восторженно пропела:
- Ну-у! Об этом человеке такое спрашивать! Да он даже и не заикнулся! А напротив: увидал у меня Библию, да и выпросил к себе: книга, говорит, исключительная. И сейчас у него - на особом столике, вот увидите... И вообще сказать: ведь уж сколько время он квартирует у меня, а и единой вещицы в комнате у меня не переставил, не перешевелил. Случись - уедет, - не дай бог, конешно! - и все как до него было, так и после его останется: не шевелено. Вот он какой есть человек! Ой, да заговорила я вас! А вы заведите-ка лошадку во двор, да и прогуляйтесь к нему в волость.
Костя так и сделал.
Волостное правление помещалось в приземистом, каменном, с побелкою, многооконном здании, словно бы вросшем в пески.
Как войти, направо, в холодных сенках с запахом сургуча и чего-то нежилого, казенного, виднелась источенная временем несуразно-толстая деревянная дверь, перепоясанная толстыми железными полосами. В проушину дверного пробоя и в кольцо железной наметки, схватывая их, пропущена была дужка навесного замка, похожего на гирю. В двери был глазок, без решетки, но такой узкий, что к нему можно было только припасть глазами, а руки не просунуть.
Костя с любопытством приостановился: так вот она какая, эта волостная "каталажка", "чужовка", а попросту говоря, тюремный чулан для провинившихся мужиков.
Там кто-то был: изнутри припали к дверному окошечку чьи-то глаза. Невольно вспомнилось, как в детстве пугивал его дед: "Не озоруй! А то пришлет стражника урядник: - Кто тут озорничает? - Костя Ермаков. - Ага! Давайте-ка я его в чужовку запру!"
Хриплый голос оттуда громким шепотом окликнул Костю.