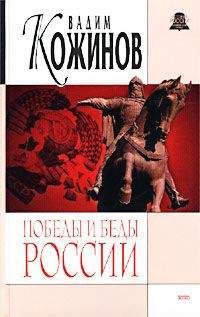Проблема стиховой интонации наиболее широко разработана у нас в исследованиях видного стиховеда Л. И. Тимофеева78.
Правда, ряд его идей вызывает сомнения. Так, он считает стих в отличие от прозы (в том числе и художественной) "типизированной формой эмоционально окрашенной речи" (указ. соч., с. 112 и др.). Однако трудно найти, например, более интенсивно окрашенную экспрессией речь, чем в монологах героев Достоевского или в диалогах чеховских пьес. Между тем это художественная проза. Вполне соглашаясь с тем, что стих типизирует интонации человеческой речи вообще (или, как говорит еще Л. И. Тимофеев, "обобщает", "облагораживает", "идеализирует" эти интонации), нелегко согласиться с тем, что дело идет обязательно об интонациях подчеркнуто эмоциональной, экспрессивной речи. Во-первых, обычный разговор нередко гораздо экспрессивней любых стихов: стиху в этом отношении всегда, так или иначе, свойственна сдержанность, законы меры, пропорциональности, гармонии, как и искусству вообще. Во-вторых, существуют стихи, "типизирующие" интонации спокойного раздумья (даже рассуждения), неторопливого, обстоятельного описания (которое может быть и чисто лирическим) или рационального изъяснения, лишенных настоящей экспрессивности (хотя бы и внутренней, скрытой).
Точно так же, всецело присоединяясь к точному определению Л. И. Тимофеева: "Стихотворный ритм есть не что иное, как своеобразная форма организации речевой интонации" (с. 70), нелегко принять другое его определение: "Стихотворная речь - это своеобразное ответвление языка" (с. 73)..
Л. И. Тимофеев совершенно справедливо утверждает: "Танец основан на типовых жестах, на типовых движениях человеческого тела, в действительности не осуществляющихся непосредственно в конкретных формах, но характерных для множества такого рода движений и жестов и представляющих собой их обобщенное и облагороженное идеальное выражение. Колыбельная песня Моцарта, Чайковского, Шуберта или Шопена, если ее исполнить действительно над колыбелью ребенка, прежде всего его разбудит, но она действительно колыбельная песня, ибо она представляет собой сосредоточенное выражение слов и интонаций, типичных для пения матери над ребенком.
С этим же самым явлением мы сталкиваемся и в стихе..." (с. 110).
Вот тут-то и возникают коварные вопросы. Многие танцы, например, типизируют жесты, присущие сражающимся людям. Но можно ли сказать, что подобные танцы есть "ответвления" войны? Можно ли сказать, что особый жанр музыки - колыбельная песня есть "ответвление" убаюкивания ребенка, если эта музыка, как справедливо замечает исследователь, не может и даже не стремится достичь той цели, к которой направлено убаюкивание?
Танцор не совершает реальных человеческих жестов: он создает произведение, "идеализированно", художественно отражающее эти жесты. Но точно так же поэт не произносит реальных фраз и интонаций, которые в жизни всегда направлены к определенной практической цели; он создает произведение, "идеализированно" отражающее реальные свойства речи.
Мы склонны не замечать или забывать, что всякая речь есть по своему глубокому существу не просто словесное выражение переживаний и мыслей, но словесное действие, осуществляемое в совершенно определенной житейской ситуации и имеющее вполне конкретную практическую цель - как и всякое телесное действие. Говоря, обращаясь к кому-либо с речью, человек всегда имеет целью побудить своих собеседников к каким-то определенным поступкам, пусть и не совершаемым тут же непосредственно, именно в этом сущность любой бытовой реплики, выступления оратора, научной работы (которая, в конечном, счете должна побудить к каким-либо практическим действиям) и т. п. Между тем стихи Пушкина, Тютчева, Блока, необычайно много пробуждая в человеке, конечно же не побуждают его к каким-то конкретным действиям. Уже поэтому нельзя считать их речью в собственном смысле.
Вот почему можно сказать, что стих есть своеобразная, а именно художественная форма организации речи, создающая из материала слов и интонаций (как танец - из материала жестов и движений) произведение искусства, но нельзя сказать, что стих есть "своеобразное ответвление языка".
Впрочем, в постановке вопроса, данной Л. И. Тимофеевым, есть внутреннее противоречие, которое, пожалуй, сильнее всего раскрывает суть дела. Исследователь совершенно верно говорит, что стих есть "типизация", "идеализация" речи. Это присуще искусству вообще. Так, например, игра актеров на сцене есть не что иное, как "типизация", "идеализация" реальных жизненных "сцен". Однако можно ли сказать, что спектакль - это "ответвление жизни"? Конечно, нет. Но то же самое относится и к стиху, к поэзии, которая есть "типизация", "идеализация" - то есть художественное претворение речи.
Мне могут, правда, возразить, что я вообще неверно определяю поэзию, ибо последняя - как и спектакль - есть, прежде всего, художественное претворение самой жизни. Но здесь-то, очевидно, и коренится вся проблема. Ибо, строго говоря, поэзия в самом деле есть художественное отражение и претворение не жизни вообще, а жизни, уже воплотившейся в речи.
Конечно, если понимать человеческую речь только как систему словесных и грамматических форм (так понимают ее лишенные глубоко лингвистического мышления языковеды), это утверждение принять трудно. Но в действительности речь есть одно из основных (и наиболее содержательных) проявлений человеческого бытия; во всяком случае она представляет не менее существенное проявление этого бытия, чем та реальность телесных жестов и движений, которая выступает как объект отражения и претворения для искусства танца.
Театральный спектакль в буквальном смысле слова отражает жизнь - то есть единство телесных, речевых, вещественно-предметных проявлений человеческого бытия. Актеры на сцене воссоздают и художественно претворяют целостную реальность жизни. Между тем поэзия осваивает именно и только речь.
Но, возразят мне: в лирической поэзии создаются и "картины" человеческой деятельности, природы, мира вещей, созданных человеком. Это, конечно, верно (хотя в массе лирических произведений воссозданы только внутренние переживания, для которых единственной "материей", предметностью является именно и только речь). Но верно и то, что в безграничном океане человеческой речи уже нашло, так или иначе, свое отражение и выражение все многообразие освоенного человечеством объективного мира. Человечество уже воссоздало всю известную ему Вселенную в речи.
И мы можем думать и рассуждать, например, о странах, где мы никогда не бывали, скажем, об Африке, об Австралии, Индии, Южной Америке и т. д., прежде всего, что эти страны воссозданы в речи тех, кто их реально узнал и передал свое видение нам.
Пушкин никогда не выезжал за пределы России и, тем не менее, создал гениальные произведения и о Германии, и о Франции, и об Англии, и об Испании, и об Югославии, и о странах Востока, и т. п. Его поэзия претворила уже ранее запечатленное в речи бытие этих стран.
Однако и вообще, в целом лирическая поэзия есть не что иное, как отражение и претворение речи, слова, которое представляет собой безгранично богатую, всеохватывающую форму человеческого бытия.
Поэтому, говоря о том, что стих есть "типизация" речи, следует понимать это в прямом и точном смысле: поэзия есть художественное отражение - или, точнее, освоение, претворение - человеческой речи во всей ее глубочайшей содержательности и во всем ее необъятном многообразии.
Это с особенной очевидностью и бесспорностью выступает в чисто лирических стихотворениях, ибо их непосредственный объект - человеческие переживания как бы вообще не существует вне речевой формы, вне словесного бытия, хотя бы в так называемой "внутренней речи", которая беззвучно совершается в нашем сознании. Когда Тютчев создавал стихи "Вот бреду я вдоль большой дороги...", перед ним стояла цель претворения именно и только "внутренней речи". Но это справедливо и по отношению к лирической поэзии в целом. Поэзия, стих - это не речь (даже хотя бы "своеобразная", "особая", "специфическая"), не "ответвление языка", а отражение, художественное претворение одной из форм человеческого бытия, речи, как спектакль есть претворение человеческой жизни в ее цельном облике и движении.