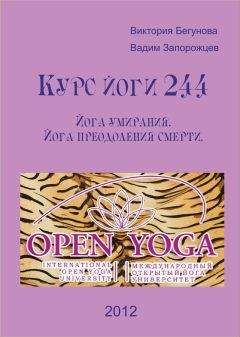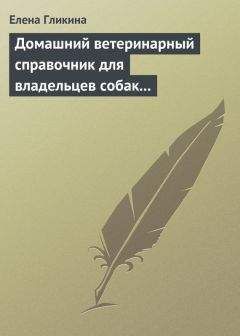Максим Николаевич приходил в суд раньше всех, работал в нем больше всех, однако, совсем почти невесомый, он чувствовал иногда себя неловко перед другими: он был приличнее одет, он был трезв, он не кашлял, и у него дома была Мушка.
К кому другому, когда он придет домой из этой тошной залы народного суда, кинется на шею тонкая белая девочка с сияющими глазами с лукавым вопросом:
- А ну, Макся, а ну, - скажите сразу, что это за слово такое: про-вер-би-ально?.. А ну?
Или, остановив его у порога вытянутой тонкой рукой, начнет декламировать торжественно из своего любимца:
- Слушайте!.. Слушайте!.. Слушайте же!..
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы...
- Ну, скажите же, Макся, ну, разве не здорово, а?.. Вот Пушкин!..
Или:
- А я в истории Трачевского нашла: пролетарии - значит детородцы!.. Ура!.. Детородцы всех стран, соединяйтесь!.. Ура-а!..
И начнет, как кенгуру, прыгать перед ним, сияя, и хлопать в ладоши, и две туго закрученные коски ее тоже прыгали, хлопая ее по спине.
Они пахли, эти тончайшие белые волосы Мушки, как пахнут волосы здоровых, веселых детей, и этот запах волос, и свечки глаз, и ямочки на щеках, и вздернутый небольшой нос, и лукавый яркий оскал крупных, круглых резцов, все это было - Мушка, и только одна она давала смысл всем жалким бумагам, какие приходилось писать ему в этом суде.
Когда в первый раз Максим Николаевич увидел Мушку, ей было девять лет. Тогда она была круглощекая. Она не дичилась его, смотрела прямо и пытливо и с улыбкой, даже снисходительной к его взрослости. Она почему-то настаивала на том, чтобы он взял у них самую большую дыню (в тот день несколько штук их купили с тележки татарина), а он отмахивался.
- Берите же, вам говорят!.. Сейчас уж темно, - не бойтесь, никто не увидит, что вы тащите дыню!
- Ну, зачем же мне такую? - улыбался он.
- Как зачем?.. Во-от!.. Придете домой к себе, - съедите!..
Серые круглые глаза глядели очень светло, и матери в другую комнату она кричала:
- Мама!.. Да мама же!.. Я ему даю дыню на дорогу, а он не знает, что с нею делать!.. Во-от!..
И именно тогда, когда стояла она с душистой крупной рубчатой желтой дыней в руках, бойкая девочка, освещенная стенною лампой, он в первый раз в жизни захотел быть отцом, а когда он женился на Ольге Михайловне, он уже прошел длинный путь отцовства, многое зная о Мушке. Он представлял ее отчетливо даже ребенком до году, когда училась она ходить, осторожно выставляя косолапые ножки и хватаясь за стулья ручонками, и говорить, называя пока все, что видела, своими короткими именами: море у нее было "дека", налить воды - "дека-дека", пароход - "у-тю-тю", гвоздь - "дык", молоток - "дык-дык", а сахар почему-то "гыль-гыль-тя".
Вот она двух лет, уложена в постель, но не спит: просит мать сыграть "Соловья" Алябьева:
- Мам! Салавейку!
И когда Ольга Михайловна кончала играть, а она еще не засыпала, она просила:
- Длугую салавейку!..
В три года она просила в таких случаях сыграть уже не "соловейку", а сонату Бетховена, выговаривая это очень твердо и бойко. Сонаты этой хватало, чтобы ее усыпить.
И еще в три года: было заведено так, что говорили ей "будь здорова!", когда она чихала, и она думала, конечно, что это необходимо. Велико было ее изумление, когда однажды мать, занятая чем-то, забыла сказать ей это вовремя и, только когда Мушка подошла к ее колену, вспомнила.
- Будь здорова!
- О-поз-да-ла! - негодующе выговорила ей Мушка. - Надо было раньше!
Тогда же, в три года, ее потеряли как-то ночью: куда-то ездили в гости в село, на тройке, в санях, возвращались ночью, и из сонных рук няньки Феклуши выпала сонная Мушка в придорожный снег. Не сразу хватились, - тройка успела отмахать с полверсты, пока очнувшаяся Феклуша вскрикнула в голос:
- Злодейка я!.. Где же ребенок?.. Окаянная я!..
Фонаря не было, а ночь была не из светлых. Две плачущих женщины Феклуша и Ольга Михайловна, обгоняя одна другую, бежали по дороге обратно, впиваясь глазами в снег, а за ними едва поспевал в тяжелой шубе отец Мушки, Николай Александрович, инженер. Иногда останавливалась Ольга Михайловна, шепча: - Стойте!.. Стойте же!.. Слушайте!.. Плачет?.. Нет?.. Нет?.. Значит, разбилась!.. Замерзла!.. - Злодейка я!.. - подхватывала Феклуша, и обе срывались вперед, шаря по снегу глазами.
Но просмотрели Мушку обе: нашел ее Николай Александрович, уставший бежать и шедший шагом. Она глубоко провалилась в рыхлый снег и чуть темнела, как чей-то след. Тепло закутанная, упавшая лицом кверху, она как спала на руках Феклуши, так продолжала спать и в снегу, как в люльке. Не проснулась и на руках у Ольги Михайловны, которая сама держала ее, не доверяя уже Феклуше, вплоть до своей городской квартиры.
И так много из года в год... А когда все взорвалось в русской жизни, и все накопившиеся веками обиды хлынули и завопили, и на каждой улице каждого города и в каждом селе открылся "фронт", Мушке с мамой пришлось жить тогда в Екатеринославе, у родных, и город осаждали григорьевцы с одной стороны и махновцы - с другой, а в самом городе одной частью владели немцы, другою белые, третьей - красные... Ольга Михайловна была тогда больна, лежала на дворе в полузабытьи и смотрела на пролетавшие над головой гранаты так же безучастно, как на ворон. И Мушка, вертевшаяся около, заслышав близкий свист снаряда, находила его глазами и указывала пальцами: "Мама, а вон еще!.." Однажды ударило совсем близко - в сарай соседа, где убило пару лошадей. Тогда Ольгу Михайловну перенесли в подвал, где уже давно прятались все жильцы дома. И как ни плакала она, что задохнется, ее все-таки держали здесь, пока она не оправилась настолько, чтобы ходить с помощью Мушки. Тогда они бежали из города - поплыли в лодке по Днепру вниз верст за десять... Их обстреливал кто-то из орудия, и несколько гранат упало недалеко от лодки, подымая белые столбы воды. Смерть гналась за ними двумя, но они ушли, скрылись за поворотом реки, высадились в каком-то селе Вороном, а оттуда на телеге доехали до первой станции и счастливо попали на поезд.
Смерть отстала, но только на время. Она была все время где-то очень близко. Все кругом было только - притаившаяся смерть... Двое суток ехали в поезде, никак не могли добраться до Мелитополя. На третий день заболела Мушка. Сидеть в вагоне было нельзя - стояли, плотно прижавшись друг к другу... Максим Николаевич так и не мог уяснить со слов Ольги Михайловны, чем заболела Мушка: была ли это закупорка вены на ноге или глубокий нарыв (тогда была эпидемия подобных нарывов), но Мушка почти теряла сознание от боли. На глухом полустанке вынесла ее Ольга Михайловна, сама еще слабая, с мутной от усталости головой. Он представлял ясно, как она, уложив на скамейку Мушку, металась по запуганному полустанку, спрашивая у всех, кого встречала:
- Где здесь больница?.. Есть где-нибудь близко больница?.. Пожалуйста, скажите, - больница?
Узнала, наконец, что есть верстах в двадцати, в молоканском селе Звереве, но лошадей, чтобы туда доехать, ни у кого на полустанке нет. Три версты несла Мушку на руках до ближайшей деревни. Там боялись ехать на ночь, - еле умолила одного старика. Но врач земской больницы, человек семейный и усталый, хотя и жил еще в своем доме, но сказал:
- Какие же, сударыня, теперь земские больницы, когда нет земств?.. Теперь больница не действует... Я и сам бы уехал, да куда? Куда?.. Скажите мне, куда?.. И на какие средства?.. Я забыл уж, когда последнее жалованье получал!..
Ольга Михайловна умоляла сделать операцию, только операцию, но доктор сказал:
- Сами не знаете, о чем просите!.. Поезжайте на завод "Унион" - всего сорок верст... Там есть больница, и, кажется, действует... Только не мешкайте... Девочка серьезна...
- Серьезна?.. Что вы, доктор!
- И очень... Поверьте.
И опять началась тряска на безрессорной подводе, и Мушка почти беспрерывно кричала от боли, и ухабы проселка то кидали ее на руки матери, то выбивали из рук... С обеда пошел дождь, за полчаса промочивший обеих до нитки. Украинец, их везший, начал усиленно ворчать:
- Нi, це вже не дiло!.. - Довез их до ближайшего хутора и сказал: - От, - шукайте собi подводу, мадам, - бо я тут у кума ночевать останусь... - Так было плохо Мушке, так утомила ее дорога, что Ольга Михайловна подумала было дать ей отдых, остаться на хуторе часа на два, но испугала ее какая-то сердобольная баба, спросившая ее участливо, кивнув на посиневшую Мушку: - Чi вже, - чi ще трохi дышить? - И, не ответив ей, тут же заметалась Ольга Михайловна искать лошадь на завод "Унион". Оставалось всего пятнадцать верст. Приехала к вечеру. Осмотрев Мушку, сказала молодая женщина-врач: Опоздайте вы всего на два часа, было бы заражение крови... - и тут же положила Мушку на операционный стол. Завод уже не работал; больница тоже доживала последние дни. Ольга Михайловна сама была сиделкой при Мушке, проживши здесь около двух недель.