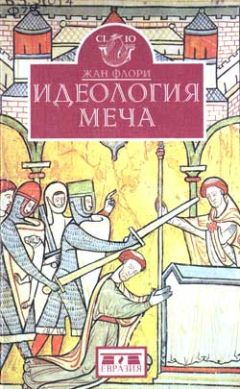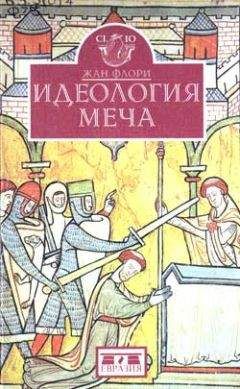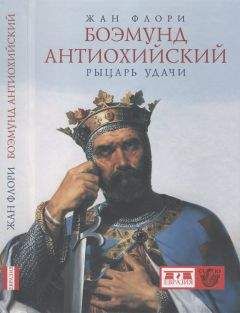Возможно, та же ситуация была и на Западе. Тогда стал бы понятен смысл загадочного 3-го канона Арльского собора, который в 314 г., сразу после знаменитого «обращения» Константина, заявляет: «De his qui arma projeciunt in pace, placuit abstineri eos a communione» [33] (Тех, кто бросает оружие в мирное время, решено не допускать к причастию).
Этот канон имеет в виду — сегодня это признается всеми — тех, кто бросает оружие в знак отказа от военной службы, а не тех, кто нарушает мир, бросая свое оружие в другого. Но тогда не совсем понятны слова in pace. Зачем бы понадобилось такое уточнение, кроме как (что хорошо понял уже А. Секретан) чтобы подчеркнуть: тогда у христианина уже не было для этого религиозных оснований, ведь в мирное время он служил в армии не затем, чтобы проливать кровь?[34] Но согласиться с этим — значит признать, что в военное время отказ от службы по религиозным соображениям полностью сохранял для христиан свое значение. Значит, речь идет о некоем компромиссе: «солдат, служащий в армии в мирное время, не только может там оставаться, но и должен это делать, дабы не вызывать скандала».[35]
II. Изменение отношения при Константине
Вскоре, однако, необходимость поддержания порядка и обеспечения безопасности христианства и империи, отныне слившихся воедино, побудила христианских писателей изменить свою точку зрения на войну и, следовательно, на солдат. Война как таковая продолжает, конечно, считаться злом, но злом, к которому приходится прибегать во избежание еще большего несчастья. Значит, есть дурные войны и хорошие битвы; а если христиан, вновь надевающих cingulum militare (воинский пояс) после отказа от него, все еще отлучают от церкви, как предписывал 12-й канон Никейского собора, — то не за военную службу саму по себе, а за неверный выбор. На самом деле этот декрет имеет в виду христиан, которые после резкой смены Лицинием религиозных взглядов покинули лагерь отступника и теперь намеревались вернуться на службу лидеру, считавшемуся врагом христиан в качестве противника Константина, их «официального» покровителя.[36]
По мере вторжений варваров эта позиция укреплялась. Эволюцию общехристианского менталитета в отношении войны хорошо выражает святой Августин, развивающий в своих работах двоякую идею: с одной стороны, обязательного неприятия несправедливой войны, этого бича человечества, но с другой — признания справедливой войны. Во имя первой идеи он заявляет, например, что следует не заключать мир ради войны, а вести войну ради мира.[37] В сочинении «О граде Божьем» он сожалеет о войне, подчеркивая: кто может размышлять о ней или терпеть ее без душевной боли, воистину утратил человеческое чувство.[38] Но в то же время, утверждая вторую идею, он уточняет: кто убивает врага, тот в принципе лишь слуга закона, отвечающий насилием на насилие.[39]
Это новое отношение к войне вызвано также разными политическими и социальными факторами. Во времена Тертуллиана или Оригена христианин мог строго следовать букве Десяти заповедей, как и духу Евангелия. Ведь для комплектования армии, поддерживавшей Pax Romana на границах, находились другие желающие. Экономическое, социальное и политическое положение поздней Империи и даже религиозная ситуация в ней этого уже не позволяет: христиан становится все больше. До тех пор, отмечает Ж. Даниэлу, христианин мог «полностью отдавать себя своей в какой-то мере священнической склонности», то есть молиться за империю, за мир, за народ.[40]
Отныне возникает новая идеологическая концепция, намеченная св. Августином и развитая его последователями: война бывает справедливой, и христианин может без угрызений совести участвовать в ней. Более того: если в первые века христианства все христиане считали своим призванием быть священниками и «ненасильниками», то Августин становится основоположником идеологии, строго разделяющей функции. Одним надлежит бороться молитвой против демонов, в то время как другие сражаются оружием против варваров.[41] Это настоящее разделение труда устанавливает, конечно, иерархию функций, ставящую священников выше мирян: ведь духовная деятельность важнее материальной, как душа, по тогдашней антропологической концепции, важнее тела.
Следовательно, повышение значимости воинского ремесла остается относительным. Впрочем, св. Августину приходится взяться за перо ради борьбы с еще господствующим предубеждением против данного государства: «Noli existimare neminem Deo placere posse, qui in armis bellicis militat» (Нельзя считать, что всякий, служащий при боевом оружии, неугоден Богу) — говорит он в том же послании, опираясь на библейские примеры: Иисус приходил к сотнику, Петр был приглашен к Корнилгао, Иоанн Креститель призывал солдат довольствоваться своим жалованьем.[42]
Таким образом, не militia как таковая достойна осуждения. Все зависит от того, в какой форме ее исполняют. Она имеет дурной и дьявольский характер, если используется для угнетения и насилия. Тогда она становится malitia (злобой, коварством). Это, насколько нам известно, первый пример игры слов militia — malitia, которую позже мы так часто, несколько в ином смысле, будем встречать у Бернара Клервоского и Иоанна Солсберийского.[43] Если же militia посвящена борьбе за справедливость, это дело достойное. И святой Августин, правда, не создавая на этой основе теорию, уточняет, что такое справедливая война: она состоит в защите родины, ее граждан, собственности.[44] В комментарии к Пятикнижию он высказывается еще определенней: справедливая война есть оборонительная война, предпринятая, чтобы покарать злодеев, война ради защиты и восстановления частных прав, находящихся под угрозой или нарушенных.[45]
Итак, вклад св. Августина в разработку теории справедливой войны и переоценку функции воинов представляется значительным. Немного позже его дело продолжил на Востоке Исидор Пелусиотский, установивший различие, впоследствии ставшее классическим, между частными убийствами, порочными и преступными, и человекоубийством на справедливой войне, в котором нет вины.[46] Св. Августин с несколько меньшей определенностью уже развивал эти темы.[47]
Еще значительнее представляется нам вклад св. Августина в создание пропасти, которую после него углубляют все больше и больше, — между мирянами и milites Christi, что означает отныне служителей Бога в клерикальном смысле слова, а не «обычных» христиан, живущих в миру. Milites Christi, как и войсковые milites, носят свой пояс — символ служения. Епископ Максим Туринский скажет об этом в начале V века в проповеди, приписываемой святому Августину по ошибке, но довольно точно излагающей его мысль.[48] Они сражаются верой с невидимым врагом, тогда как мирские солдаты бьются мечом и льют кровь, которой milites Christi не вправе проливать. Это различие ведет к созданию иерархической и жреческой концепции церкви: над массой христиан, которым в некоторых обстоятельствах, определяемых церковью, лить кровь дозволяется, если не рекомендуется, стоит небольшой класс «совершенных» христиан — клир и монахи, на которых переносятся все требования христианской морали. Священники не смеют проливать кровь: канонические законы соборов отныне будут неустанно об этом напоминать, с начала V века и до знаменитого декрета Николая I. Так, Леридский собор в 524 г. осудит на два года покаяния клириков, которые, находясь в осажденном городе, пролили кровь в силу необходимости.[49] В 742 г. декрет Карломана запрещает клирикам носить оружие и вступать в армию; это запрет будет повторен в 757 г., в 769 г. и в капитулярии Карла Лысого, позже, в 861 г., утвержденном Николаем I.[50] Дело идет, таким образом, к двум видам сакрализации:
— сакрализации клира, который стоит выше обычного христианина и подчиняется уже совсем иным нравственным законам, более требовательным к нему, чем к простым смертным;
— сакрализации крови, которую можно было бы вместе с Ж. ле Гоффом расценить как «табу».[51] Эта двоякая сакрализация привела к противопоставлению (вплоть до крестового похода и даже до Бернара Клервоского) тех, кто не может проливать кровь, и тех, кому это дозволено, — до такой степени, что вскоре тех, кто раньше был солдатом, запретили посвящать в сан: пролитая кровь как бы лежала на них неизгладимым пятном.[52]
Это пятно лежит и на мирянах. Для них табу не столь абсолютно, но, тем не менее, пролитие крови остается моральным проступком. Во всяком случае, таково мнение большинства, даже если святой Августин считает, что солдат, получив приказ, может убивать врага со спокойной совестью,[53] даже если Афанасий, когда пишет монахам с целью успокоить их на предмет неумышленной вины, хватает через край, взяв в качестве иллюстрации пример солдата: убивать запрещено, но истреблять противников на войне — законно и достойно похвалы.[54] Все более и более громкая проповедь добродетелей монашеской жизни — ухода от мира, сексуальной чистоты и ненасилия, изображение этой жизни как новой формы militia, как мирной и героической замены военной службы[55] не полностью снимают с тех, кто не ведет такую жизнь (мирян), вину в пролитии крови. Следы этой концепции встречаются в большинстве сборников канонов и у многих церковных писателей, с которыми мы встретимся позже. Процитируем здесь лишь пенитенциарий Эгберта, архиепископа Йоркского, который около 750 г. дает 40 дней наказания тому, кто совершил убийство в публичном бою — это относится ко всем milites — или по необходимости, например, отбирая какую-то вещь, которую пытались украсть у ее хозяина.[56] Полувеком позже, в начале IX века, у Халитгара Камбрейского мы встречаем наглядное свидетельство того, как изменилось отношение к человекоубийству: он устанавливает разные тарифы в зависимости от момента, когда было совершено убийство, и от лиц, ставших жертвами. Так, за убийство в военном походе, но без уважительной причины, накладывается покаяние сроком в 21 неделю; если это произошло в мирное время, срок составит 28 недель; наконец, за убийство ради защиты — себя или близких — покаяние не обязательно, при желании его можно заменить постом. Отметим, что убийство при исполнении служебных обязанностей не рассматривается. А ведь это — наиболее частый случай для milites того времени. Зато убийство мирянина влечет за собой 3 года покаяния, убийство клирика — 10 лет,[57] убийство на войне остается виной для законодательства, отражающего, как отмечает Ф. X. Рассел, щепетильность каролингской эпохи в вопросах войны и убийства.[58]