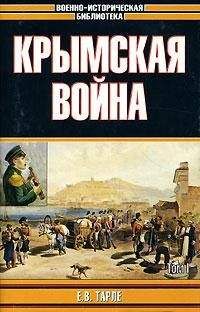Обзор этой небольшой предреволюционной публицистики, занимавшейся вопросом об устранении от выборов «четвертого» сословия и сохранившейся в Национальном архиве и в Национальной библиотеке, можно дополнить, отметив еще писания Ламбера, «инспектора учеников» в различных «госпитальных» (благотворительных) домах [15]. Выше мы видели то горькие упреки, то легкую иронию относительно того, что состоятельный слой tiers-état будет представительствовать за рабочих и вообще за бедняков. Ламбер далек и от упреков и от иронии. Правда он жалуется, что «между фиском, собственниками и их агентами существует своего рода соглашение, не предумышленное, но весьма действительное, по которому деньги считаются всем, люди — ничем». Однако эти гуманитарные бутады не мешают ему признать, что допустить бедных в собрание было бы «неосуществимо и бесполезно», ибо их внимание слишком поглощено работой и они необразованы. Содержание мыслей Ламбера весьма путанное и неопределенное (филантропические и неясные пожелания о защите бедных от богатых и т. д.); к нашей теме они отношения не имеют [16].
Вот к чему сводится почти весь раздавшийся в публицистике в начале 1789 г. протест против отсутствия в Генеральных штатах представительства от рабочего люда [17]. И даже эти редкие голоса исходят явственно не из рабочей среды, а только от сочувствующих лиц. Скудость мыслей касательно необходимых для рабочего класса реформ несомненна. Но, с другой стороны, мы видим, что был налицо не только протест, но даже в двух случаях вполне ясно подчеркивалась противоположность интересов «буржуазии» и рабочих, и тем не менее у нас нет решительно никаких данных, чтобы даже судить, насколько подобные мнения находили себе доступ в рабочую среду. Для истории развития самой идеи «классовых противоречий» приведенные тут выдержки во всяком случае не лишены интереса: обычное суждение о полном отсутствии в публицистике 1789 г. этой идеи нуждается в поправке.
Столичная беднота напомнила о себе не наказами, а неожиданным для всех (и для нее самой) агрессивным выступлением.
Безработица и дороговизна хлеба — вот два бича, от которых остро страдало рабочее население Парижа в 1789 г. Дороговизна хлеба страшно обострилась вследствие неурожая 1788 г. и бедственной, неслыханно суровой зимы 1788/89 г., а на особенный промышленный кризис в целом ряде производств не переставали жаловаться с 1786 г., с момента заключения очень невыгодного в общем для Франции торгового договора с Англией. Суконные, бумагопрядильные мануфактуры жестоко страдали от конкуренции английского механического производства, мало распространенного еще во Франции (кроме запада); ряд других производств также не мог успешно бороться с хлынувшим во Францию потоком английских товаров. Сократился также сбыт в Испанию и германские страны, где начались таможенные стеснения для ряда французских провенансов. Промышленный кризис очень и очень давал себя чувствовать уже с конца 1787 г. Зимой 1787/88 г. в Амьене насчитывалось 46 тысяч безработных, в Эльбефе без работы очутилась половина всех рабочих, а заработная плата упала до 8 су, 10 су с небольшим; в Руане, в Седане, в Труа, в Нормандии, в Каркассоне, в Дофине — всюду в 1787–1789 гг. кризис свирепствовал немилосердно, и к концу 1788 г. во Франции насчитывалось более 200 тысяч безработных [18]. Потребление повсеместно уменьшилось в 1788 г. [19] Зима 1788/89 г. после двух последовательных неурожаев, пережитых центральной Францией, была особенно тяжела для промышленности и торговли; производство сокращалось. Нужно заметить, что, впрочем, еще Париж, страдавший в некоторых отраслях производства от английской конкуренции, вознаграждал себя тем, что в других отраслях пользовался трактатом 1786 г. для усиленного сбыта в Англию (кружева, газовые материи, фарфор, парфюмерия, страусовые перья, мебель, ювелирные изделия и т. п.) [20]. Но Париж, помимо всего, притягивал нуждающуюся массу из других мест: голодный год гнал в Париж из провинции новые и новые массы безработного люда, и этот горючий материал внушал беспокойство многим наблюдателям. «Четвертое сословие», о котором писал Дюфурни де Вилье, увеличивалось в столице не по дням, а по часам, а цены на хлеб, конечно, продолжали расти. На этой почве и разыгралась та стихийная вспышка, которая прекрасно характеризует страшную возбудимость нуждающейся городской массы 1789 г. и готовность ее к самым решительным и самым непланомерным и немотивированным действиям по наиболее ничтожному внешнему поводу.
Глава II
РАЗГРОМ ДОМОВ ФАБРИКАНТОВ РЕВЕЛЬОНА И АНРИО
Под словами «l’émeute (или l’insurrection) de Réveillon» в истории революции понимаются бурные беспорядки, происшедшие в Париже за неделю до открытия Генеральных штатов (27 и 28 апреля 1789 г.) и окончившиеся разгромом домов двух богатых промышленников: Ревельона и Анрио (Henriot). Едва ли не всеми историками революции этот эпизод считается одним из самых темных и загадочных явлений этой эпохи, и в общих историях революции (также и у Жореса) отмечается лишь неясность причин этой вспышки, и ей посвящается самый общий и беглый рассказ. Некоторое исключение представляет в этом отношении Тэн, который говорит о «деле Ревельона» на четырех с половиной страницах второго тома своего труда [1]. Он ссылается на два документа национальных архивов, на мемуары Безанваля, принимавшего участие в усмирении беспорядков, и еще на двух-трех современников события, причем, изложив в общих чертах внешнюю сторону происшествия, считает возможным прийти к совершенно определенному заключению, что беспорядки созданы были тремя элементами: 1) голодными, 2) бандитами и 3) патриотами; голодными, — потому что бунтовщики ограбили булочника на улице Бретань и хлеб отдали собравшимся женщинам, потом арестованным на углу улицы Сентонж; бандитами, — потому что так рассказывали шпионы герцога Шатле, командовавшего французскими гвардейцами; и, наконец, патриотами, — потому что вечером, после возмущения, босоногие нищие просили милостыню со словами: «сжальтесь над бедным tiers-état» [2]. Вот и все. Тэн, рассказав о происшествии, стремится привести все изложение к наперед поставленному тезису, чтобы потом естественно перейти к описанию следующих событий, авторами коих должны явиться те же «голодные, бандиты и патриоты» [3].
Но еще в гораздо большей степени сочинением на заданную себе самому тему является и небольшая статья Бодона (Beaudon), специально посвященная «делу Ревельона» [4]. Разница лишь та, что у Тэна тезис был антиреволюционный, а у Бодона, совершенно обратно, задача заключалась в том, чтобы обвинить двор в искусственном провоцировании беспорядков. У Тэна нет доказательств для его тезиса, взятого во всей полноте, но он, хоть, излагая события, ссылается на некоторые материалы, и вообще за ним остается та бесспорная заслуга, что он первый обратил внимание на все это дело, а у Бодона ни одной ссылки на всех шести страницах его статьи мы не встречаем, и просто он декретирует свои предвзятые положения. Сознавая, очевидно, некоторую непрочность подобного метода, он кончает статью свою такой сентенцией: «Когда деспотическое и испорченное правительство усматривает в народе возбуждение, которое может стать страшным, то оно организует возмущение, чтобы доставить себе случай отразить страсти террором. Такова причина, таковы последствия дела Ревельона, которое навсегда осталось темным, потому что виновники этого преступного акта вовсе не оставили следов своих гнусных интриг, которые выясняются только сцеплением фактов». Ни малейшей цены все эти голословные фразы не имеют.
С Бодоном не согласен Тютэ (Tuetey), автор многотомного указателя, без которого шагу нельзя ступить никому из занимающихся изучением рукописей, хранящихся в Национальном архиве и относящихся к революционному периоду [5]. В предисловии к первому тому своего указателя он говорит о деле Ревельона на основании документов Национального архива, и, отвергая, конечно, за полной необоснованностью рассуждения Бодона, Тютэ мягче относится к «делению» Тэна, но в конце концов отвергает и его, или, точнее говоря, из «голодных, бандитов и патриотов» оставляет лишь третьих: «все эти рабочие и поденщики в лохмотьях, которые бросились на приступ к домам Ревельона и Анрио и с неописуемой яростью разбили и опустошили все, не были ворами, не были вульгарными злодеями, привлеченными добычей, но смотрели на себя как на народных мстителей, восставших против долгого гнета, вооружившихся и сражающихся за дело третьего сословия» [6].
С этим мнением, после ознакомления с относящимися к делу документами, как рукописными, так и изданными, мы также согласиться не можем. Если уже оставлять одну из указанных Тэном категорий, то нужно оставить «голодных» и никого более. Мало того, даже и тот пересказ некоторых из этих документов, который дан у Тютэ, тоже вовсе не оправдывает упомянутого заключения. Обратимся к подлинным документам и посмотрим, что они говорят нам об этом событии. Только некоторая часть этих материалов напечатана в сборнике документов, изданном Шассеном [7] в 1889 г., — другие до сих пор не изданы и хранятся в Национальном архиве.