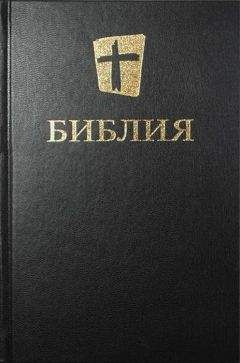И здесь снова мы можем восхититься порядком, господствующим в беспорядке. Ибо совершенно очевидно, если хоть немного поразмыслить, что главные виновники революции могли пасть только под ударами своих сообщников. И даже если бы единственно сила произвела то, что называют контр-революцией, и восстановила Короля на троне, все равно не было бы никакого способа вершить правосудие. Самое большое несчастье, которое могло бы случиться с человеком впечатлительным, это стать судьей убийцы его отца, родственника, друга или хотя бы захватчика его имущества. Однако именно такое произошло бы в случае контр-революции, совершенной описанным (стр.27 >) образом. Ибо верховные судьи, по самой природе вещей, почти все принадлежали бы к униженной касте. [41]И представлялось бы, что правосудие лишь мстит за себя, даже если бы оно только карало. Вообще, законная власть всегда сохраняет некоторую умеренность при наказании преступлений, имеющих множество сообщников. Когда она приговаривает к смерти за одно преступление пять или шесть виновников, то это побоище; если она выходит за некие пределы, то становится отвратительной. Наконец, великие преступления, к сожалению, требуют великих наказаний. И здесь легко преступить пределы, когда дело касается преступлений против королевской особы и когда лесть становится палачом. Общество до сих пор еще не простило старому французскому правосудию ужасное наказание Дамьена. [42] [43]А как поступили бы французские судьи с тремя или четырьмя сотнями Дамьенов, со всеми чудовищами, которые заполонили Францию? Будет ли священный меч правосудия опускаться беспрестанно, как гильотина Робеспьера? Соберут ли в Париже всех палачей королевства и всех артиллерийских лошадей для четвертований? Растопят ли в больших котлах свинец и смолу, чтобы поливать ими тела людей, разрываемых (стр.28 >) раскаленными щипцами? И вообще, как различать между собой преступления? как распределять наказания? И главное — как карать, не имея законов? Нам скажут: Надо было бы выбрать нескольких великих преступников, а всех остальных помиловать. Но именно этого Провидение не желало бы. Поскольку в его силах сделать все, что оно хочет, оно не признает эти помилования из-за бессилия покарать. [44]Необходимо было бы, чтобы великое очищение свершилось, чтобы взоры были поражены; необходимо, чтобы французский металл, очищенный от его нечистого и ломкого шлака, стал более чистым и ковким в руках будущего короля. Без сомнения, у Провидения нет нужды карать в сей час, чтобы оправдать свои пути. Но в эти времена оно становится досягаемым для нас и карает как человеческий суд.
Были народы, в буквальном смысле слова приговоренные к гибели, подобно преступным лицам, и мы знаем, почему. [45]Если бы в предначертания Господа входило раскрытие его помыслов относительно французской Революции, то мы бы прочли приговор о наказании Французов, как читаем постановление судебной палаты. — Но что более мы бы узнали? Разве это наказание не очевидно? Разве мы не увидели Францию обесчещенной более чем ста тысячами (стр.29 >) убийствами? А всю землю этого прекрасного королевства заставленной плахами? эту несчастную землю — напоенной кровью ее детей, жертв убийств по суду, в то время как бесчеловечные тираны ее истощают вне пределов страны — в жестокой войне, которая поддерживается ими ради их собственного интереса? Никогда самый кровавый деспот не играл с жизнью людей с такой наглостью; и никогда покорный народ не являлся на бойню с большей охотой. Железо и пламень, холод и голод, лишения, всевозможные страдания — ничто не отвращает его от мук; должна исполниться судьба всех, кто оказывает преданность: отнюдь не увидим неповиновения до той поры, пока не свершится суд. [46]
И однако, как много в этой столь жестокой и столь разрушительной войне возникает интересных мнений! и как сменяют друг друга уныние и восхищение! Перенесемся в самые страшные времена Революции; предположим, что при правлении адского Комитета [47] армия в результате мгновенного перевоплощения вдруг становится роялистской; предположим, что она, в свою очередь, проводит собрания для определения выборщиков и что она свободно называет самых просвещенных и самых уважаемых людей, чтобы наметить себе путь, коего следует держаться в этих трудных условиях; наконец, предположим, что один из этих избранников армии поднялся бы и заявил: (стр.30 >) «Доблестные и верные воины, есть обстоятельства, когда вся мудрость человеческая состоит в том, чтобы выбрать из двух зол меньшее. Конечно, тяжко сражаться за Комитет общественного спасения. Но было бы еще более гибельным, если бы мы повернули против него наше оружие. Как только армия вмешается в политику. Государство распадется; и враги Франции, используя этот миг распада, вторгнутся в нее и расчленят ее. И отнюдь не ради этого мига мы должны действовать, но во имя продолжения времен: особенно же мы должны помышлять о том, чтоб сохранить целостность Франции, а сделать это мы можем только сражаясь за правительство, каким бы оно ни было; ибо таким образом Франция, несмотря на ее внутренние распри, сохранит свою военную мощь и свое внешнее влияние. И если хорошо разобраться, то сражаемся мы отнюдь не за правительство, а за Францию и за будущего Короля, которому мы будем обязаны Империей, быть может, более великой, чем та, которая не получится у Революции. Значит, долг наш — побороть отвращение, заставляющее нас колебаться. Наши современники, возможно, осудят наше поведение; но следующие поколения воздадут ему должное».
Этот человек говорил бы как великий философ. Ну так что же! — Армия осуществила сие химерическое предположение, не осознавая, что она делает; и Террор, с одной стороны, безнравственность и сумасбродство — с другой, сотворили в точности то, что диктовала бы армии исчерпывающая и почти пророческая мудрость.
По здравому размышлению увидится, что коль скоро революционное движение образовалось, Франция и Монархия могли быть спасены лишь благодаря якобинству.
Король никогда не имел союзника; довольно очевидно то, что коалиция питала неприязнь к целостности Франции, и не было бы никакой опрометчивости в (стр.31 >)обнародовании этого факта. Но каким образом противостоять коалиции? Каким сверхъестественным способом сломить натиск сговорившейся Европы? Один лишь адский гений Робеспьера мог сотворить это диво. Революционное правительство закаливало душу Французов в крови; оно ожесточало дух солдат и удваивало их силы диким отчаянием и презрением к жизни, похожими на бешенство. Страх перед эшафотами, толкая гражданина к границам, питал силы вовне их, по мере того как внутри страны подавлял все, даже малейшие, попытки сопротивления. Все жизни, все богатства, все полномочия были в руках революционной власти; и это чудовище мощи, опьяненное кровью и успехом, страшное явление, никогда доселе не виданное и, без сомнения, не способное повториться, было одновременно и ужасной карой для Французов, и единственным способом спасения Франции.
Чего испросили бы роялисты, когда они потребовали бы контр-революции такой, какой им она представлялась, то есть совершаемой внезапно и при помощи силы? [48]Они потребовали бы отвоевания Франции; значит, они потребовали бы ее расчленения, уничтожения ее влияния и унижения ее Короля, то есть резни, которая, может быть, растянется на три века как неминуемое следствие такого нарушения равновесия. Но наши потомки, которых весьма мало будут занимать наши страдания и которые будут плясать на наших могилах, посмеются над нашим сегодняшним неведением. Они легко забудут бесчинства, которые узнали мы и которые бы сохранили целостность самого прекрасного царствия после Царствия Небесного. [49](стр.32 >) Все чудовища, порожденные Революцией, трудились, по-видимому, только ради королевской власти. Благодаря им блеск побед заставил весь мир прийти в восхищение и окружил имя Франции славой, которую не могли целиком затмить преступления революции; благодаря им Король вновь взойдет на трон во всем блеске своей власти и, быть может, даже более могущественным, чем прежде. И кто знает, быть может, он, вместо того чтобы униженно предлагать какие-то из своих провинций во имя права господствовать над другими, будет их возвращать, с гордостью власти, дарующей то, что она способна удержать? Конечно, случались и не менее невероятные вещи.
Эта же мысль, что все совершается на благо французской Монархии, убеждает меня в невозможности любой роялистской революции до наступления мира; ибо восстановление Королевской власти мгновенно ослабило бы все пружины Государства. Черная магия, которая действует ныне, исчезла бы как туман пред солнцем. Доброта, милосердие, правосудие, все кроткие и мирные добродетели сразу же явились бы снова и принесли бы с собой некую общую мягкость во нравах, некую легкость, полностью противоположную угрюмой жестокости революционной власти. Не будет более ни реквизиций, ни грабежей исподтишка, ни насилий. И станут ли генералы, идущие за белым знаменем, называть бунтовщикамижителей захваченных стран, если те законно себя защищают? и будут ли эти генералы им приказывать стоять смирно под страхом расстрела как мятежников? Эти ужасы на руку будущему королю, однако он не был бы способен ими воспользоваться; он располагал бы, таким образом, лишь средствами человечными. Иначе он сравнялся бы с неприятелями; и что тогда произошло бы в миг неопределенности, которая необходимо сопровождает переход от одного правления к другому? Я ничего этого не знаю. Я прекрасно осознаю, что великие завоевания (стр.33 >) Французов как бы охраняют целостность королевства (я даже надеюсь уловить здесь смысл этих завоеваний). Однако мне по-прежнему представляется, что для Франции и для Монархии полезнее, если бы мира, и славного для Французов мира, добилась Республика; и чтобы в тот миг, когда Король вновь взойдет на трон, прочный мир заслонил бы его от любых напастей. [50]