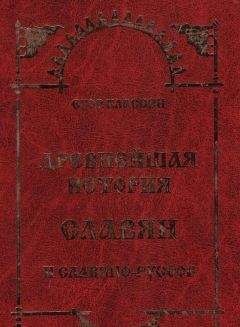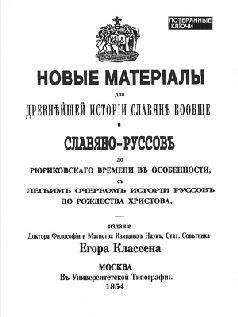Итак, небесплодны бывают занятия, посвящаемые разысканию и обследованию давно минувших событий, уже обследованных неоднократно. Там, где почитают все источники исчерпанными, все соображения недоступными, часто можно найти еще много фактов, опущенных случайно или с намерением; ибо легко может быть, что один следователь выбирал для себя не ту точку воззрения, с которой другой смотрит, и потому мог пропустить много фактов, в числе которых может быть и такой, который один достаточен, чтобы совершенно разгромить несколько положений, получивших уже в истории предикат несомненной истины.
Рудники древней истории так еще богаты, что из них можно извлечь множество фактов, поясняющих события, досель остающиеся нейтральными в истории, но неотысканию доказательств о связи их с тем или другим народом. Они свяжут однородные, но разъединенные части в одно целое, а гетерогенные приклейки отсекут анатомическим ножом, как наросты. Но есть и такие случаи, где историк, приступая к исследованию, уже наперед составлял себе тему, или, лучше сказать, неподвижную идею (idee fixe), которую старался обставить фактами, пока нейтральными, превратными выводами и в случае нужды гипотезами, а потому из самосохранения должен был отстранять подозрениями и возражениями или молча пропускать все то, что ему явно противоречило в развитии предсозданной труду своему идей, от которой он не желал и по пристрастию своему не мог уже уклониться.
Если собрать все те факты, которые ускользнули от следователя беспристрастного, и логически оправдать те, которые несправедливо заклеймены печатью отвержения историка одностороннего или причастного греху пристрастия, то, конечно, представится возможность изобразить древнюю Русь в более свежих красках, дать ее характеристике очерк, более верный, более близкий к подлиннику.
Есть еще случаи, в которых факт, относящийся к следимому нами народу, открывается не прежде, как подробном анализе какого-либо сказания о народе соседственном. Но есть и такие случаи, где мы, следя языки, имена, прозвища, образ жизни, верованья, поверья, пословицы, одежду, пищу, оружие и т.п. житейские отношения, выводим синтетическим порядком имя народа безлично или под псевдонимом описанного; а через то созидается новый факт для истории.
Иногда счастливо замеченная одна черта характера какого-либо лица или народа раскрывает нам более, нежели сотня страниц холодного описания политических действий того народа, непричастных его жизни внутренней, стороны его сердца.
Все деяния человека или целого народа составляют одну неразрывную нить и характеризуются каким-то единством, если иногда и неполным, но зато всегда ясным. В древней истории мы слышим нередко отклики, как бы созвучные с следимым нами предметом. Прямо употреблять их как вставку в составляемую нами историю было бы ошибочно; нужно следить, вглядываться, вслушиваться в эти отклики, анализировать их и ставить в параллель с другими. Но, найдя однажды часть такой нити или исходный ее конец, уже гораздо легче отделить и всю нить, хотя бы она в иных местах и перепутана была в огромный узел встречных событий. – Тут уже мы убеждаемся обстановкою предметов, их характером, нацветом, отливом, мягкостью или шероховатостью, опрометчивостью или медлительностью, теплотою или холодом, одним словом: тем созвучием, которое ясно выражает сродство предметов.
Так узнают земляки друг друга, будучи брошены судьбою по разным путям в чужбину. Что-то знакомое, что-то родное сближает их уже с самой первой встречи. Обычаи, привычки, наклонности инстинктивно сводят их между собою, прежде нежели они успеют объясниться словами.
Философский взгляд, брошенный на целый ряд фактов быта народного, приводит их в стройные фаланги, связывает в одно целое и дает бытие истории. Все, не принадлежащее сюда, само собою выдвигается из рядов и отделяется как чуждое, стороннее. – Такой обзор называется исторической критикой. Но некоторые писатели осмелились назвать исторической критикой самовластные правила, по которым можно безнаказанно отнять у народа все его лучшее достояние: его честь, славу, родину и любовь к отечеству, сказав просто: я подозреваю тут позднейшую вставку, или что-нибудь тому подобное. Мало ли бывает в жизни ложных подозрений! – каждое подозрение должно быть подкреплено некоторыми доводами, без которых оно не имеет никакой силы. Притом подозрения могут рождаться от разных причин, иногда просто неосновательных, а иногда даже и грешных, и заклеймить ложь, но чтобы унизать один народ и возвысить другой. Такова была и критика Шлецера, дозволявшая себе притом и выражения, явно пристрастные и часто вовсе не научные. – И несмотря на то, Шлецер почитается еще многими за корифея в Русской истории.
Он внес в нашу отечественную историю ложный свет в самом начале ее. Он утверждал, но только без доказательств, что будто Варяги-Руссы были Скандинавы, тогда как у самих Скандинавов нет ни малейшего следа о Варягах и они сами долго не решались назвать Руссов соплеменниками себе. Только Германцы утверждали это; но в настоящее время дошло до того, что предполагают, будто Русь состояла из скандинавских колоний[1]; мало этого – сочиняют, что будто в одиннадцатом веке все Славяно-Руссы говорили скандинавским языком[2]. Эта выходка необходима для поддержания мнений Шлецера, уже раскачавшихся на зыбком основании своем. – И несмотря на то, многие из наших русских историков приняли сторону Шлецера и развили его мысль еще более; они даже сказали, что будто от пришествия Варягов-Руссов привился северному славянскому народу характер и дух скандинавский. А это не значит ли, что все развитие прирожденных, внутренних сил и способностей Славяно-Русского народа отнято у него и присвоено Скандинавам, едва ли более Китайцев участвовавшим в этом деле? – Но что же остается теперь сказать о наших летописях одиннадцатого века? По Мунху, Руссы говорили в этом веке скандинавским языком, стало быть, и летописи наши написаны на скандинавском языке? Посмотрим, как Немцы будут читать славянскую грамоту, принимая ее за скандинавские руны!
Германцы прошлого столетия считали Руссов и вообще всех Славян народом варварским, необразованным и не способным к образованию; они называли их пастухами, номадами, холопями[3] и ставили характеристикою народа невежество и зверство, требовавшие постоянного побуждения[4]. А как они тогда полагали, что свет, озаряющий всю Европу, избился из недр их самосветности, то и Шлецер, упоенный народным предубеждением, предположил, что Руссы должны быть обязаны Германцам своим просвещением, своею гражданственностью, своим строем и самобытностью. Но как сношения Германцев с Руссами не представляют никакого исторического материала, из которого бы можно было вывести, что Руссы заимствовали у них всю свою гражданственность, то Байер и Шлецер укрыли свою мысль под эгидою Скандинавов, причислив к ним, как к соплеменникам своим, и Варягов-Руссов. Этим они думали оживотворить свою неподвижную, тяготеющую во мрак произвола идею, предсозданную исследованием и своду Русских летописей[5].
Если Шлецер действительно не понял Русских летописей, то он слепец, напыщенный германскою недоверчивостью к самобытности
Русских государств во времена дорюриковские; но если он проник сущностью сказаний и отверг таковые единственно из того, чтобы быть верным своему плану, то он злой клеветник! Но обратимся теперь к нашим историкам. К сожалению, должно сказать, что некоторые из них смотрели в кулак Немцев и от того не стыдясь говорили, будто великая Россия была наследным достоянием Скандинавов и будто Рюрик занял ее как свою отчину, а не как призванный на престол самим народом; будто до времен Владимира обитали в ней немногие номады, называвшиеся рабами, отроками, хлапами, и будто Русские летописцы изуродовали эти слова в Словаков, Славян и приписали их народу, никогда не существовавшему. Прочитав подобное мнение, невольно воскликнешь с певцом «Славы дщерь».
(Тени Лаврета! Святополка! Можете ли вы восстать из гробов своих? Вы бы познали горесть народа и стыд ваших внуков. Чужая жажда испивает нашу кровь, и сыны, не зная славы отчей, величаются тем, что называют себя потомками холопов!)
Если Шлецер и почитал себя создателем высшей исторической критики, если он и мечтал, что вознесся в этой ветви учености на недосягаемую для других высоту, с которой мог дробить их, обращать своим приговором в сказку или самовольно присваивать тому или другому народу; если его последователи и думают, что зажженный им светильник озарил лучами солнца всю Русскую историю, потому они смело могут еще более развивать, усиливать и подкреплять его скандинавоманию, имеют право лишать Русское юношество того благороднейшего чувства, которое рождается от высокого уважения к своим предкам – родоначальникам, то настанет еще то время, когда укажут им, что они прикованы к надиру, и потому не видят зенита; что восставленный Шлецером светоч над Русской историей давно догорел и померк и представляет одну головню, марающую священные листы истории!