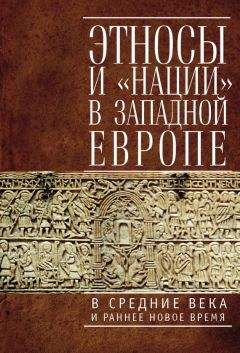Английская система законотворчества противопоставлялась как традициям других народов на протяжении всего хода мировой истории, так и опыту современных европейских государств. В глазах депутатов даже авторитет величайших законодателей древности, таких как Солон, Ликург или сам Платон не мог заслонить собой того факта, что, законы, данные ими согражданам, со временем устаревали, ибо с течением жизни любые правовые нормы требуют корректировки. Не только отдельный, даже выдающийся ум, не может предусмотреть изменений, которые потребуются в будущем, но и коллективный разум ограниченной группы законодателей (как это бывало в некоторых государствах с олигархическими режимами) не способен обеспечить подлинные интересы общества, поскольку в острой борьбе одни кланы сменяют другие и падение тех, кто был у власти, ведет к неизбежному пересмотру изданных ими законов. Закономерный вывод, к которому приходит Йилвертон, отталкиваясь от исторических прецедентов, – это превосходство английской системы и как типологической модели государства, выигрывающей в сравнении с тиранией и олигархией, и как конкретного исторического феномена. По мнению спикера, предвидеть проблемы, возникающие перед государством, глубже постичь смысл законов, сделать их разумными и добиться беспристрастного их исполнения, а также того, чтобы им охотно подчинялись, можно лишь в том случае, «если сами люди участвуют в их создании».14
Наиболее законченное выражение идея превосходства английской практики законотворчества над всеми известными историческими примерами нашли в трактате, посвященным парламентской процедуре и обычаям, вышедшем из-под пера известного юриста-антиквария и депутата парламента Джона Хукера, который писал: «Ни афиняне с их Солоном и его законами, ни Спарта с ее Ликургом и его законодательством, ни Египет с его Меркурием и законами, ни Рим с Ромулом и его законами, ни итальянцы с их Пифагором и его законами… не сравнятся с этим малым островом и королевством, которое. пережило и превзошло их всех. Ибо его короли и правители… на протяжении многих сотен лет были не столь воинственны, сколь мудры, не столь бесстрашны, сколь рассудительны, не столь величественны, сколь учены, и не столь искусны на полях сражений, сколь мудры в Сенатах».15
Что же касается современной ситуации, многие парламентские ораторы не упускали случая указать на издержки неограниченной власти монархов континентальных государств, вырождавшейся в тиранию, на произвол государей, законодательные акты которых не проходили через процедуру одобрения обществом, и чьи безгласные подданные были вынуждены нести тяжелое налоговое бремя и терпеть посягательства власти на свою собственность. Так в 1567 г. Р. Онслоу, превознося английскую традицию принимать законы, утверждал, что, «хотя эти законы предоставляют государю многие царственные прерогативы и регальные права, последние не таковы, чтобы правитель мог отбирать деньги [у подданных – О.Д.] или поступать по своему соизволению, не подчиняясь порядку, но он спокойно терпит то, что его подданные могут пользоваться принадлежащим им, не будучи неправедно притесняемы, в то время, как другие государи в этом отношении ведут себя свободно и берут, сколько захотят».16
В 1576 г. спикер Д. Попэм также пустился в рассуждения о тираническом управлении некоторых иностранных государей, ссылаясь на пример «соседей во Франции и Фландрии», оккупированной испанцами, после чего восславил английские порядки управления и законотворчества.17
Противопоставляя себя другим народам, парламентарии представляли Англию едва ли не последним государством в Европе, где права граждан были защищены от подобных поползновений. Показателен в этом отношении эпизод, имевший место в парламенте 1571 г., когда в палате общин разгорелись дебаты относительно прерогатив короны. Опасаясь того, что критика может показаться королеве слишком резкой, придворный Хэмфри Джилберт (в будущем – известный мореплаватель) предостерегал депутатов от чрезмерного злоупотребления свободой высказываться в парламенте, ибо государыня могла лишить их этих привилегий и начать править единолично, по собственному усмотрению, подобно королю Франции, который, по словам оратора, «вызволил свою корону из-под опеки» генеральных штатов. Джилберт указал и на другие страны, где «короли обладают абсолютной властью, как в Дании или Португалии, где, по мере того, как власть становилась все свободнее, подданные по той же причине все больше обращались в рабов».18
Одним из постоянных мотивов, звучавших в официальных парламентских речах, была тема свобод, присущих англичанам в большей степени, чем другим народам. Концепция свободы трактовалась весьма широко, она подразумевала право безбоязненно исповедовать истинную веру, право владеть собственностью, защищенное от любых посягательств, пользоваться плодами своих трудов, наслаждаясь миром и покоем, а также могла включать комплекс политических свобод, в том числе парламентских привилегий, таких как свобода слова и свобода депутатов от ареста. Об исконных свободах англичан много и охотно рассуждали как ораторы, выступавшие от имени короны, так и рядовые депутаты, в том числе, критически настроенные к официальной политике.
С точки зрения власти, свобода англичан в первую голову предполагала право исповедовать истинную (то есть официальную англиканскую) веру, а также безопасность от внешнего врага, мир и процветание. Однако бросается в глаза, что для официальных ораторов категория «свободы» парадоксальным образом стала краеугольной в теоретическом обосновании все возраставших налоговых требований короны. Защита «христианской свободы» и собственности англичан от внешних врагов должна была стать делом не одной только королевы, но и самого общества. Поскольку цена противостояния католическим державам росла, становилось очевидным, что финансирование армии и флота не могло больше осуществляться только за счет казны: от общества ждали взноса на «общее дело», а от парламента – вотирования соответствующих субсидий государыне. Два типа ритуальных речей были призваны убедить депутатов в необходимости кровопускания кошелькам их сограждан – вступительная речь лорда канцлера или лорда-хранителя печати во время открытия парламентской сессии и речь лорда– казначея, специально посвященная финансовому положению государства и его потребности в субсидиях. Общие места, характерные для выступлений канцлеров, это прославление королевы, не желающей обременять своих верных подданных налогами, ее мудрая финансовая политика, экономия во всем ради общего блага, и как следствие – счастливое процветание Англии, в которой царят мир и покой, в то время как большинство соседних стран раздираемы религиозными конфликтами и гражданскими войнами. (На том, что страна счастливо пребывает в мире, ораторы нередко настаивали вне зависимости от реальной политической ситуации, даже в те годы, когда конфессиональный конфликт между католиками и сторонниками протестантской веры внутри страны обнаружился со всей очевидностью, а угроза интервенции извне была вполне реальной). Речам лордов-казначеев были присущи больший драматизм и нагнетание беспокойства по поводу возможной угрозы извне, поскольку в финале они должны были огласить цену «свободы англичан» по текущему курсу и сделать предложение о размерах субсидий, которые правительство хотело получить. Выступления официальных ораторов изобиловали яркими образами страны, готовой как один встать на защиту своего острова, метафорами общества как команды корабля,19 каждый член которой на своем месте делает общее дело, примерами из античной истории, превозносившими самоотречение граждан во имя родины. В то же время они были готовы апеллировать и к индивидуалистическим интересам людей, доказывая, что защита государства выгодна каждому, ибо речь идет, как утверждал Николас Бэкон, «о всеобщем процветании этого королевства, о защите нашей страны, о сохранении каждого в отдельности, его дома и его семьи».20 В 1571 г., прославляя выгоды мирного правлении королевы Елизаветы, Бэкон живописал материальное благополучие англичан, противопоставляя его «вызывающим жалость бедствиям и несчастьям соседей» и призывал сделать посильный взнос на поддержание мира.21 Лорд-канцлер Кристофер Хэттон добавил в перечень того, о чем должен радеть англичанин, наряду с государством, «его друзей, земли, имущество и собственную жизнь».22 Ярким примером подобной «мобилизационной» патриотической риторики, апеллирующей сразу ко всем возможным чувствам англичанин, может послужить речь Хэттона в 1589 г., который убеждал парламентариев: «Дело касается счастливого продолжения и сохранения этого государства, этого королевства, этой державы, всех нас, религии, Ее величества, вашей страны, ваших жен, ваших детей, ваших друзей, ваших земель, вашего добра, ваших жизней. Призывая противостоять «неистовству врага», «готового завладеть нашей землей и со всей возможной жестокостью расправиться с каждым из нас», Хэттон говорит о священной войне как о конфликте «достойном», «необходимом» и даже «выгодном» с точки зрения личного интереса. «Мы обязаны защищать себя, наших жен, детей и друзей – это заложено в нас от природы. Мы должны защищать свою страну, своего государя, свое государство, законы и свободы – это согласуется с правом наций и затрагивает честь всех нас. Мы обязаны защищать свои владения, свободы, добро и земли – это всецело касается нашей выгоды».23 Взывая к патриотизму соотечественников, канцлер апеллировал и к славным деяниям предков, и к репутации англичан, добавляя новые штрихи в коллективный портрет английской нации. «В былые времена наши благородные предки смогли защитить это королевство, не имея таких средств, которыми можем воспользоваться мы… Они… были славными завоевателями, что же мы теперь примем бесчестье, позволив покорить себя? До сих пор об Англии отзывались как о королевстве, прославленном во всем христианском мире своими доблестью и мужеством. Что же теперь мы утратим нашу прежнюю репутацию? В таком случае для Англии было бы лучше, чтобы мы вовсе не появлялись на свет».24 Уступить врагам, значило, по словам парламентария и опытного дипломата Генри Антона, ратовавшего за выделение щедрых субсидий правительству, попасть под ярмо рабства и быть навеки отмеченными клеймом зависимости.25