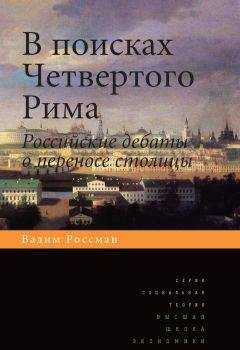В этом же ключе и на основании развития автономии регионов может происходить «децентрализация» высшей школы и приближение центров производства специалистов к тем районам, где на них может возникнуть спрос. Сами университеты во многих развитых демократиях создают экономические оазисы, формируя вокруг себя целые индустрии. Такие экономические оазисы и ядра роста возникли, например, в виде Силиконовой Долины в США, Силиконовых холмов вокруг Техасского университета в городе Остин, Университетов Карнеги Мелон, Массачусетского технологического института, в Исследовательском Треугольнике Каролины (Чапел-Хилл, Дарем и Роли) и вокруг других всемирно известных учебных заведений. Канадский социолог Ричард Флорида, например, замечает, что если в прошлом предприятия возникали вблизи от источников сырья, то сегодня они появляются там, где есть качественный и квалифицированный человеческий капитал, что часто связано именно с небольшими университетскими городами [Florida, 2005].
В Москве проживает почти 1 миллион студентов [Пряников, 2007]. Однако темп и стоимость жизни российской столицы отнюдь не располагают к учебе и научной работе, которые требуют неспешности и удаленности от шумных и дорогих метрополисов. Русские Гарвард, Стэнфорд и Йель могли бы обосноваться в таких живописных старинных русских городах, как Елец, Кимры, Елабуга или Кинешма, которые гораздо больше располагают к ученым занятиям. То же самое, в еще большей степени, относится и ко многим чисто исследовательским центрам и учреждениям. Именно такая традиция размещения научных центров и университетских кампусов вне пределов крупных городов существует в ведущих научных державах – США, Великобритании и Германии, которые превосходят все остальные страны по количеству Нобелевских лауреатов. В этих странах важнейшие научные центры находятся в небольших, но всемирно известных городах – Оксфорд, Йель, Мичиган, Пало-Альто, Беркли, Гарвард, Гейдельберг, Констанц, Фрайбург и другие.
Итак, мы выделили три фундаментальные причины, которые делают перенос столицы актуальным и желательным.
Подсчеты экономистов и мировой опыт говорят о неэффективности совмещения экономических и политических функций в одном городе в крупных государствах. Российская столица также превзошла общие критерии эффективности крупного мегаполиса и экономически оптимальные размеры.
Федеративные принципы государственного устройства и накопленный многолетний баланс несправедливого распределения ресурсов подорвали доверие к Москве со стороны регионов и диктуют необходимость смены урбанистических вех. Вредная инерция скопления и стягивания всех функций и всех материальных благ в один город плохо совмещается с принципами федерализма. Существующее устройство, кроме того, подрывает основания и возможности для обеспечения единства нации и национальной консолидации в условиях существующих разрывов в уровне дохода между центром и периферией.
Необходимость строительства нации со своими символами и иконографией на руинах СССР и освобождение от тоталитарной советской архитектуры и идеографии делают Москву малоподходящим кандидатом на роль национальной столицы. Помимо старой коммунистической номенклатуры постсоветская Россия адаптировала многие советские и царские здания и символы. Псевдоморфоза нациостроительного и антиимперского импульса реформ 1990-х годов в старые советские пространства, архитектуру и урбанистическую иерархию исказила политический смысл этих реформ и оказалась неадекватной их целям и движущим силам, что, конечно, было свойственно и любым другим типам исторических псевдоморфоз. Заявленные новые политические и экономические смыслы, вложенные в старые мехи архитектурных и политических форм, не смогли сохранить их изначальную харизму и энергетику. Незавершенность процессов национального строительства настоятельно требует создания новых пространственных, прежде всего урбанистических, воплощений для новых политических смыслов.
Мы также обратили внимание на чрезвычайные сложности на пути адекватной технической реконструкции инфраструктуры Москвы, стоимость которой легко может превзойти или стать сопоставимой со строительством новой столицы.
Совокупность этих причин уже дает серьезные основания для принятия решения по этому вопросу. С точки зрения автора, первая причина указывает на желательность переноса столицы, вторая и третья – на отсутствие достойных альтернатив этого шага. Транспортные проблемы в Москве и необходимость развития Сибири, напротив, вряд ли дают необходимые или достаточные основания для принятия такого грандиозного решения.
Естественно коррумпированная политическая система не может преобразиться в национальную за счет такого рода проекта. Успех его зависит от политического режима и лидеров, пользующихся широкой поддержкой и могущих сделать это решение благоприятным или хотя бы приемлемым для всех регионов и большинства россиян. Помимо очевидных проблем с имплементацией и наличием адекватных для решения этих задач политических лидеров, главными сложностями на этом пути являются, однако, те интеллектуальные и политические инерции мышления, которые могут давать ложные идеологические ориентиры и контексты для географии и политического воплощения такого переноса – инерции, которые мы уже крат ко охарактеризовали в введении к книге.
* * *
Спор о новой столице наглядно демонстрирует некоторые тупиковые способы мышления о российском пространстве и столичности.
В обсуждении проблемы столицы мистика власти накладывается на мистику пространства, и эти две загадочные силы, которые всегда гипнотизировали, озадачивали и приводили в смятение умы людей, еще больше мистифицируют друг друга. Власть мистифицирует пространство, а пространство мистифицирует саму власть. Власть отождествляется с пространством, стараясь его охватить. Пространство сливается с властью, становясь лишь одной из ее проекций и отражений.
Привычка обсуждать мистифицированные самой практикой политической жизни проблемы в мистических же категориях порождает фантастические теоретические конструкции, а иногда – политических и интеллектуальных чудовищ. Примером может служить привычка рассуждать о столичных городах как избранных или естественных центрах. Она выражается также в насквозь мифологизированной градософии, – к аргументам которой, несмотря на их архаичность, как показало наше исследование, до сих пор охотно апеллируют определенные круги российских политиков и интеллектуалов.
Другим, гораздо более опасным примером такого рода, является превратно понятая геополитика, дающая авторам этих планов вместо подсказок ложные но, как им часто кажется, обьективные ориентиры для принятия решений. Эти геополитические теории, которые становятся фундаментом для некоторых направлений в дискуссии о столице, нередко являются не столько когнитивными инструментами осмысления пространства, сколько самими симптомами болезни. Для понимания роли такой геополитики уместно описать исторический фон дебатов о переносе столицы. Именно интеллектуальный климат и ситуация поиска утраченного времени, характерные для постсоветского общества, дают ключ к пониманию популярности геополитических идей.
Советский человек был изьят из времени и пространства, вырван из мировой системы координат, ограничен возможностями путешествовать по свету и помещен судьбой в официальную советскую версию истории. Исторический материализм изображал советского человека находящимся на самом гребне общественного прогресса и истории, тем самым изымая его из потока времени. Путешествия за границу были доступны только весьма небольшой прослойке советских людей. Уровень мобильности населения внутри страны диктовался прежде всего официальными мероприятиями по освоению земель и территорий. Политически структурированное и утрамбованное государством пространство было организовано империей извне и сверху. Более или менее освоенными вне командировок и армии были только малое пространство родного края и поездки в Москву. Политическая либерализация и реформы 1990-х годов поставили во весь рост вопрос о возвращении бывшего советского человека обратно в историю и географию.
Тем не менее это возвращение оказалось во многом эфемерным и половинчатым.
По оценкам специалистов, в постсоветский период интенсивность внутренних миграций и обьем внутреннего туризма, которые могут служить добротными индикаторами освоенности территорий, интегрированности страны и циркуляции социальной энергии, значительно снизились даже по сравнению с эпохой СССР [Мкртчян, 2009; Андриенко, Гуриев, 2005] (см. табл. 8 и 9).
Пространственный поворот, который начал происходить в постсоветской политической жизни, на месте часто справедливо разрушенных мифов – прежде всего связанных с аспациальностью советского сознания в осмыслении социальных реальностей – создал не меньшее количество иллюзий[43].