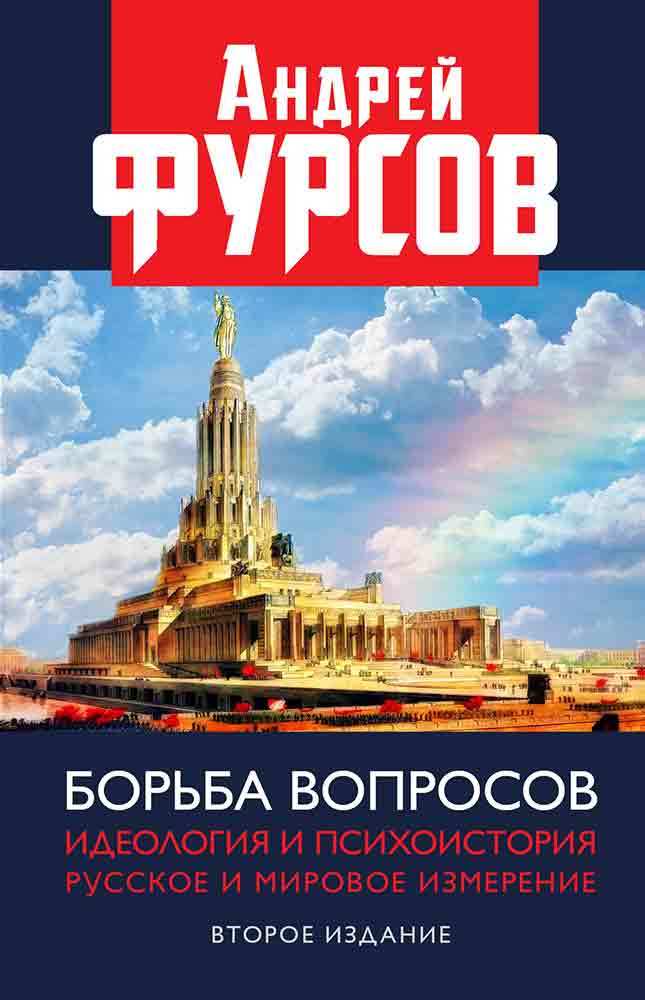нередко оказывается дороже и важнее комфорта: Обещания, Надежды, Иллюзии. В любом случае, была некая перспектива. Борьба за свободу всегда предполагает будущее, она футуристична (future). Борьба за выживание ограничена настоящим, она презентична (present).
Логика развития постиндустриального мира, конкуренции за место под солнцем в нём, даже если он окажется Dark sun world, объективно ведёт к тому, что под «колеса прогресса» попадает значительная часть населения – последняя четверть XX в. демонстрирует это со всей наглядностью.
«Обречённые, несчастные обречённые, – размышляет о людях некой местности Кандид, герой «Улитки на склоне» Стругацких, – они не знают, что обречены, что сильные их мира… уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что всё для них уже предопределено и – самое страшное – что историческая правда… не на их стороне, они реликты, осуждённые на гибель объективными законами и помогать им – значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке фронта».
Какой выбор может быть в такой ситуации? Налево пойдёшь… направо пойдёшь… прямо пойдёшь… А какой выбор был у средневекового монаха или схоласта, которые жили в монастыре или при университете и вокруг которых кипела борьба города и деревни, сеньоров и крестьян, императоров и пап, королей и баронов – всех против всех? Какой выбор был на заре Нового Времени у Лютера? Буйство и жестокость низов во время крестьянской войны в Германии напугали его до такой степени, что он призвал избивать и вешать их. А разве не пугали Маркса жестокости низов и пролетариев во время Парижской коммуны? Напугали – да так, что он перестал твердить о необходимости диктатуры пролетариата.
Выбор?
Социальному агенту, возникшему в результате социопроизводственного снятия противоречия между наёмным трудом и интеллектуальным трудом и пока что лишь внешне ещё выступающему в качестве наёмного работника умственного труда, только предстоит выработать и средства самообособления в порождающей его системе, и формы сопротивления ей, и логику формулировки социального выбора. Каким всё это будет – сказать трудно. Ясно одно – что всё это невозможно без адекватной социально-исторической теории.
Произвольная позиция по отношению к господствующим в обществе группам – необходимое, хотя и недостаточное условие для успешной работы в этой области. Именно мировые информационные потоки становятся наиболее адекватным производственным базисом для независимого социально-исторического теоретизирования. Это не значит, что они абсолютно облегчают его; отнюдь нет, в некоторых отношениях, которые суть предмет особого разговора, они даже делают его более трудной и сложной интеллектуальной, а отчасти и социальной задачей.
В чём Маркс и Энгельс были совершенно правы в «Манифесте» (и «Манифестом»), так это в том, что связали определённые социальные группы, их общественный и политический потенциал, борьбу за улучшение своих позиций с социальной теорией, с задачей разработки социальной теории. Теоретизация (и историзация) самосознания той или иной группы – необходимое условие для превращения этой группы в полноценного и самостоятельного социального агента, в субъекта. Наёмные работники интеллектуального труда в этом не исключение. Исключением они могут оказаться в другом. По причине всеобщего, универсального характера их труда и соответствующей ему практической и теоретической позиции в обществе, у рационального знания, социальной теории, адекватных положению и интересам наёмных работников интеллектуального труда, есть хорошие, значительно лучшие, чем у других социальных групп, возможности стать действительно всеобщим, универсальным и максимально свободным от «локальных» особенностей, частных интересов и «идеологий», т. е. максимально содержательным и минимально функциональным. Это не значит, что у такой теории не будет внутренних ограничений и противоречий. Отнюдь нет. Но они будут принципиально иными, чем у носителей частных видов труда.
Ясно, что именно наёмные работники умственного («неовеществлённого») труда в наибольшей степени объективно заинтересованы в демонтаже нынешней дисциплинарной структуры наук о мире, обществе и человеке, поскольку эта структура отражает ситуацию господства различных форм овеществлённого труда и, соответственно, связанных с ними групп и интересов над всеми остальными.
Объективная заинтересованность наёмных работников умственного труда как социальной группы в устранении пришедшей в качестве наследия XIX в. дисциплинарной решётки наук об обществе совпадает с логикой и потребностями развития социального знания в целом, с поисками выхода из тупика и кризиса современной социальной науки. Но это также означает, что изобретение новых объектов и конструирование «вокруг них» новых дисциплин с соответствующими методологиями и типами отношения к реальности, будь то россиеведение, капитализмоведение, исследование внелегальных комплексов или что-то ещё, автоматически означает вовлечённость в социальную борьбу, в столкновение социальных интересов. Ведь социальная (и – шире – современная в целом) наука была не только средством познания, а выполняла определённые социально-властные функции. Знание – сила. И недалёк от истины И. Валлерстайн, заметивший: «Научная культура (XIX–XX вв. – А.Ф.) была чем-то большим, чем просто рационализацией. Это была форма социализации различных элементов, выступавших в качестве кадров [132] всех необходимых (капитализму. – А.Ф.) структур. Как язык, общий для кадров, но не для рабочей силы, она стала средством классового сплочения высшей страты, ограничивая перспективы сопротивления со стороны той части кадров, которые могли впасть в подобный соблазн (нарушения правил игры Капитала и Государства. – А.Ф.). Далее, это был гибкий механизм воспроизводства кадров… Научная культура создала рамки, в которых возможность индивидуальной мобильности не угрожала иерархическому распределению рабочей силы» [133].
Иными словами, конструирование любой формы рационального знания об обществе, принципиально новой, по сравнению с существующей в течение последних 150 лет, методологии социально-исторических исследований, теории (причём необязательно теории по поводу интеллектуалов как социальной группы – это частности) задевает интересы не только научных сообществ («парадигм»), но и стоящих за ними экономических и политических структур и комплексов отношений (процессов). Именно в эти комплексы отношений эксплуатации и неравенства встроена современная социальная наука, составляющая их интегральный элемент [134].
«Постиндустриальная», «информационно-энтээровская» система производства переплавляет в один тип, в один комплекс отношений то, что раньше существовало в качестве двух типологически различных форм. А именно отношения «эксплуататоры – эксплуатируемые» и «господствующие группы – интеллектуалы». Ныне формируется некий единый комплекс. В ранней, неразвитой пока ещё форме этого комплекса интеллектуал выступает – по логике предыдущей системы – в качестве наёмного работника умственного труда. Но как будет обстоять дело дальше, на более развитых стадиях, когда принципиально должны измениться (и, как знать, быть может, стать ситуационными) сами явления эксплуатации и собственности, сейчас сказать трудно. В любом случае, если прежде при всех социальных потрясениях или обострениях интеллектуалы выбирали между угнетателями и угнетёнными, эксплуататорами и эксплуатируемыми, то ныне императив такого выбора исчезает, по крайней мере – в тенденции. И это кардинально меняет ситуацию, отражением и выражением которой был «Манифест Коммунистической партии».
VIII
Ситуация