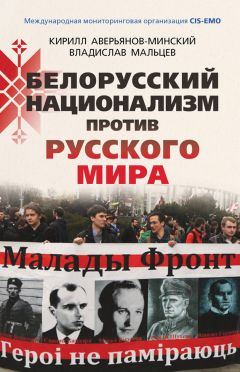В. В. Розанов в 1911 году писал: «Владимир Соловьев не принадлежит к тем открытым и ясным умам, как Белинский или Чернышевский, беря какое-нибудь “сочинение” которого в руки, берешь вместе с тем и его “душу”. У Владимира Соловьева, беря единичное “сочинение” в руки, всегда берешь то или иное обращение к публике, притом данного момента и данной местности, за которым какова вообще его душа – неизвестно. Он всегда был агитатор, и всякое сочинение его имеет подзаголовок “Ad lectorem”» (Розанов, 2005b: 104). Однако эта черта, вызывавшая упреки (скорее даже обвинения) со стороны, например, Н. Н. Страхова или о. И. Фуделя, напротив, со стороны Леонтьева вызывала понимание и скорее даже одобрение, равно как не боялся он упрека Соловьева в «иезуитизме», спрашивая, что когда достигнет Соловьев своей цели и последователи его «положут лоском всю либеральную Европу к подножию Папского престола; дойдут до ступеней его через потоки европейской крови», то «тогда разве не простится ему и ложь его?? Простится, мой друг! Да еще скажут: “Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе; – но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!” И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: “Он не хитрил, – он сам заблуждался и мечтал о невозможном”;.на это ответят: “Тем лучше! Это трогательно”» (Леонтьев – Фуделю, 19.I—01.II.1891, с. 270, 271). Ценил эти качества в Соловьеве Леонтьев, быть может, по принципу «от обратного» – как свойственно нам ценить (и иногда переоценивать) то, чего мы сами лишены.
По записанным С. Н. Дурылиным воспоминаниям племянницы К. Н., Марии Владимировны, Леонтьев однажды при ней сказал Вл. Соловьеву: «Вы должны быть патриархом» (цит. по: Фетисенко, 2012: 364); о той же мечте Леонтьева свидетельствует и о. Иосиф Фудель, вспоминая в 1918 году: «Не шутя мечтал он видеть своего любимого Владимира Сергеевича Соловьева на кафедре Вселенского Патриарха в Царьграде <…>» (Мое знакомство с К. Леонтьевым… С. 462). Далее в том же тексте о. Иосиф вспоминает:
...
Вл. Соловьева «он чисто по-женски любил, прощая ему многое и не замечая еще большего» (Там же. С. 463).
Не простил Соловьеву Леонтьев только его реферат 1891 года «Об упадке средневекового мировоззрения» – не мог простить потому, что это было уже расхождение в самой сути: Соловьев принимал и восхвалял ту самую «либеральную цивилизацию», которая была ненавистна и омерзительна К. Н., по неприятию которой он подбирал друзей и единомышленников, терпимый к разномыслию по многим другим вопросам. Ответить Соловьеву Леонтьев уже не успел – 12 ноября 1891 года он скончался в Новой Лаврской гостинице в Сергиевом Посаде.
Отец Иосиф же в дальнейшем успел изменить свое отношение к Соловьеву – увидев последнего прошедшим духовный путь, в одном отношении родственный пути своего учителя – как заканчивающийся разочарованием в вере в свою мечту и обретением последней надежды в православной вере:
«Пути их были совершенно различны до противоположности, но кончили оба одним и тем же: сознанием, что всемирная история уже кончилась и что единственное, что важно теперь каждому из нас, – это “чаще быть ближе к Господу, если возможно, всегда быть с Ним”, как сказал незадолго до своей смерти Соловьев, или “прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати”, как неоднократно повторял К. Леонтьев» (К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях… С. 415).
«Старый ребенок»
Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. – 1056 с., [32] с. ил.
Опубликованное в 2002 году и только что вышедшее вторым, исправленным и дополненным изданием, жизнеописание Василия Васильевича Розанова, созданное Валерием Александровичем Фатеевым, остается по сей день лучшей биографией Розанова. Лучшей не только с научной точки зрения – хотя и в этом отношении другие объемные биографические опыты, опубликованные на данный момент, не выдерживают с ней конкуренции, – но в первую очередь по форме и тональности повествования. Слова о «сложности», «противоречивости» – или, мягче и сложнее, об «антиномичности» Розанова настолько привычны, что на них практически перестаешь обращать внимание – они становятся чем-то само собой разумеющимся с первого же опыта обращения к его текстам. Равно как, вероятно, и другой – противоположный, в подтверждение заявленной «антиномичности» – образ «простоты», нередко складывающийся как итоговый результат, – когда прямо противоположные розановские заявления не отменяют друг друга, но, отменяя буквальные смыслы, дают некий третий смысл, заключающийся не в том, «что сказано», а «как», «когда», в конечном счете ведя к смыслу, неотделимому от говоримого. Можно сомневаться, и, возможно, вполне резонно, скажут ли статьи Розанова что-то о самом Гоголе или Михайловском, о Государственной Думе или о рецензируемой книге, но вот об авторе они говорят всегда и много – говорят как по его воле, так и против нее, сказываясь в оговорках, повторяющихся образах, внимании к какой-то определенной детали: он присутствует в своих текстах независимо от своей воли, физиологически. Но и последнюю формулировку сразу же следует уточнить – эта «естественность», «физиологичность» вырабатывалась долго и сложно, ему пришлось почти всю жизнь работать над собой, чтобы «стать естественным ».
И вот его, сложнейшего, двоящегося, ускользающего от всякого однозначного определения, Фатеев описывает в медлительной, почти старомодной манере, обозначая и самый жанр не как «биографию», но, отсылая к пухлым фолиантам XIX века, как «жизнеописание»: сложность персонажа здесь великолепно умеряется простотой избранной формы, напоминая так любимые самим Розановым подробные биографии, с массой деталей, цитат из писем, дневников и мемуаров, вниманием к деталям, в которых, согласно Розанову, сама жизнь – к петербургским адресам Василия Васильевича, к издательским хлопотам, собиранию нумизматической коллекции и т. д. и т. п. То, что на наш вкус можно отнести к недостаткам работы, это все то, что выбивается из избранной стилистики жизнеописания – великолепные первые две-три сотни страниц, со вкусом рассказывающие о детстве и молодости Розанова, его учебе в Москве, первом браке, учительстве в Брянске, Ельце и Белом, петербургских мытарствах, по мере того как Розанов становится все более известным публицистом и писателем, сменяются все чаще пересказом его текстов и обзором критических отзывов – сама «жизнь» проваливается между опубликованных статей. Даже важнейшее событие в жизни Розанова – его переход в суворинское «Новое время» и отношения, складывающиеся у Розанова в газете, – оказывается оттесненным на второй план; газетные будни, на которые пришлось без малого двадцать лет его жизни, целая треть, даны лишь немногими заметками, к тому же лишенными временной перспективы. А ведь Суворин в биографии Розанова – фигура не менее значимая, чем в биографии Чехова: сам Розанов писал, что Суворин его «спас», положив ежемесячную плату в 300 руб. (в два раза больше, чем он получал, служа в Госконтроле), а затем – очень характерная для Суворина «черта» – дав тысячу рублей на поездку в Италию, что Розанову, задерганному и измученному, было просто необходимо (и результатом чего стала необыкновенная, единственная в подобном роде книга – «Итальянские впечатления»). Суворин много значил для Розанова – не случайно уже после смерти Суворина Розанов издал (разумеется, со своими примечаниями) его письма к нему: шаг не только не конъюнктурный, но едва ли не вредный для Розанова (во всяком случае планы публикации некоторых писем вызвали конфликт с одним из сыновей издателя; да и другие сотрудники «Нового времени», ничуть не менее обязанные Суворину, не особенно торопились написать что-либо, выходящее за пределы «ритуально необходимого» в память умершего патрона). Суворинская газета, созданный им «парламент мнений», была весьма значима в плане формирования особенной розановской стилистики – начиная от требований газетного быстрописания, необходимости уместиться в жестко заданный небольшой объем (что для ставшего вскоре великолепным газетчиком Розанова первоначально было проблемой – ведь его основной формой в первой половине 1890-х была журнальная статья, очерк) и заканчивая «авторским» характером рубрик: фельетоны Буренина и Амфитеатрова, «маленькие письма» Суворина, «мой дневник» Меньшикова и т. д. – сильно меняясь во времени, вплоть до 1900-х, когда Суворин стал отходить от дел, «Новое время» была яркой авторской газетой, имеющей свое лицо и линию поведения (в дальнейшем она все чаще из «парламента» превращалась в «свалку мнений», уступая первенство другим газетам, в первую очередь сытинскому «Русскому слову», не сумев удержать своих лидирующих позиций и не успевая за переменами в газетном деле – благодаря способности почувствовать и первой реализовать которые она и добилась успеха в 1876—1880-х годах). Мы привели лишь один момент – как раз бытовых взаимоотношений, которые лишь мельком даны у Фатеева, нарушая гармонию и, как нам кажется, самый «жизнеописательный» замысел книги. Но равным образом можно сказать и о почти отсутствующих сюжетах работы Розанова у Сытина (в бытовом, повседневном плане), о том, что семье Розанова – второму браку, отношениям с детьми, с женой – отведено несоразмерно мало места. Гармония текста восстанавливается лишь ближе к концу, когда вновь «повседневный» план отвоевывает себе место наряду с философскими, литературными и политическими спорами. Впрочем, это все «жалобы от изобилия» – мастерство первых и заключительной глав книги столь велико, что на его фоне другие разделы представляются слабыми – но это «эффект соседства», желание, чтобы повествование, нашедшее превосходный ритм и меру в начале, продолжалось так же до финальной точки, не снижаясь.