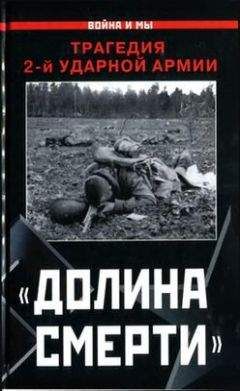Итак, набат звонит, драгуны скачут и, прискакав, ничего не могут сделать: национальные гвардейцы стекаются, подобно слетающимся воронам: Наша взорвавшаяся грозовая цепь, падающая лавина или с чем еще можно сравнить эту систему эскортов, разыгралась не на шутку, теперь она действует уже до Стенэ и до самого Буйе. Храбрый Буйе, сын вихря, сажает полк Руаяль-Аллеман на коней, произносит пламенные слова, зажигающие глаза и сердца, раздает по двадцати пяти луидоров на роту. Скачи, прославленный Руаяль-Аллеман: не на Тюильрийскую атаку и Неккер-Орлеанскую процессию бюстов - сам король в плену, и можно завоевать весь мир! Такова ночь, заслуживающая имени Ночи Шпор.
В шесть часов произошли два события. Адъютант Лафайета Ромеф, скакавший во всю прыть по старой дороге зеленщиков и все ускорявший под конец свой аллюр, по прибытии в Варенн нашел там десять тысяч национальных гвардейцев, яростно, с неистовством панического страха требующих, чтобы король немедленно возвратился в Париж, дабы предотвратить бесконечное кровопролитие. С другой стороны, "англичанин Том", жокей Шуазеля, спешивший с его упряжкой, встретился на высотах Дана с Буйе. Непоколебимое чело Буйе мрачно, как грозовая туча; громоподобный топот полка Руаяль-Аллеман несется за ними по пятам. Англичанин Том отвечает как умеет на короткий вопрос, что творится в Варенне, в свою очередь спрашивает, что ему, англичанину Тому, делать с лошадьми Шуазеля и куда ехать. "К черту!" - отвечает громовый голос, затем Буйе, снова пришпорив коня, командует королевским немцам: "Вскачь!" - и с проклятиями исчезает. Это последние слова нашего храброго Буйе. В виду Варенн, он осаживает коня, созывает офицерский совет и убеждается, что все напрасно. Король Людовик уехал по собственному согласию под повсеместный звон набата, под топот десяти тысяч уже прибывших вооруженных людей и, как говорят, еще шестидесяти тысяч, стекающихся отовсюду. Храбрый Делон, даже без "приказаний", бросился со своей сотней в реку Эру30, переплыл один рукав ее, но не смог переплыть другого и стоял мокрый, запыхавшийся, с трудом переводя дух под градом насмешек десяти тысяч, в то время как новая берлина, громыхая, направлялась в тяжелый, неизбежный путь к Парижу. Значит, нет помощи на земле; нет ее и на небе; в наш век не бывает чудес!
В эту ночь "маркиз де Буйе и еще двадцать один человек из наших перебрались за границу; бернардинские монахи в Орвале, в Люксембурге, дали им ужин и ночлег". Почти безмолвно едет Буйе с мыслями, которых нельзя передать речью. Он уезжает на север, в неизвестность, в киммерийский мрак: на вест-индские острова, так как с худосочными, безумными эмигрантами сын вихря не может действовать совместно, потом он уедет в Англию на безвременную стоическую смерть; во Францию он больше не вернется. Слава храброму, который в этом ли, в другом ли споре представляет настоящую сущность, членораздельно выражающуюся часть человеческой доблести, а не хвастливый, бесплотный призрак и болтающую, стрекочущую тень! Буйе - один из немногих роялистских деятелей, о которых можно сказать это.
Так исчезает и храбрый Буйе из канвы нашей истории. История и ткань, слабые, недостаточные символы той великой таинственной ткани и живой материи, которая называется Французской революцией, в то время действительно ткавшейся "на громко стучащем станке времени". Старые храбрецы с их стремлениями исчезают из этой ткани, и в нее вступают новые - желчные Друэ со своими стремлениями и цветом, как обыкновенно бывает при таком плетении.
Глава восьмая. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Итак, наш великий роялистский заговор бегства в Мец приведен в исполнение. Он долгое время находился на заднем плане, как устрашающий королевский ультиматум, и наконец выплеснулся наружу со всеми своими страшными последствиями, поистине не напрасно. Сколько хитро задуманных роялистских заговоров и проектов, один за другим, взорвались, подобно пороховым минам и громовым ударам, и ни один из них не разрешился иначе! Пороховая мина Seance Royale 23 июня 1789 года взорвалась, как мы видели, "через запал", а впоследствии, будучи снова заряженной богом войны Брольи, смела Бастилию. Затем последовал банкет в Опере с потрясанием сабель и пением: "О Ричард, о мой король!", вызвавший при содействии голода восстания женщин и Афину Палладу в лице девицы Теруань. Храбрость не всегда полезна, и счастье никогда не улыбалось хвастовству. Вооруженная кампания Буйе кончилась так же, как и заговор Брольи. Один человек за другим приносят себя в жертву этому делу, только для того чтобы содействовать его скорейшей гибели: на нем словно лежит проклятие, от него отреклись небо и земля.
Год назад, шестого октября, король Людовик, эскортируемый девицей Теруань и двумястами тысячами человек, совершал королевский въезд в Париж, какого еще никогда не видывали; мы предсказывали ему тогда еще два таких въезда, и, следовательно, после этого бегства в Мец предстоит еще один. Теруань не сопровождает его на этот раз, и Мирабо "не сидит в одном из сопровождающих экипажей". Мирабо лежит мертвый в Пантеоне великих людей. Теруань сидит в мрачной австрийской тюрьме, после того как поехала в Люттих по своим делам и там была схвачена. Она лежит в своей тюрьме, слушая хриплый рокот Дуная и вспоминая угасший свет своих патриотических ужинов. Она будет лично говорить с императором и вернется во Францию. А Франция лежит - как? Быстролетное время сметает великое и малое, и в два года изменяется многое.
Но во всяком случае сейчас, говорим мы, происходит второй позорный въезд в Париж, хотя и в сильно измененном виде, но также на глазах сотен тысяч свидетелей. Терпение, парижские патриоты, королевская берлина возвращается! Но возвратится она не ранее субботы, потому что едет она медленными перегонами, среди шумно стекающегося моря национальных гвардейцев, числом до шестидесяти тысяч, среди смятения всего народа. Три комиссара Национального собрания - знаменитый Барнав, знаменитый Петион, всеми уважаемый Латур-Мобур - выехали к ней навстречу; из них двое первых едут все время в самой берлине, рядом с их величествами, а Латур в качестве столь почтенного человека, про которого все говорят только хорошее, может ехать и в арьергарде, с г-жой Турзель и субретками.
В субботу, около семи часов вечера, в Париже опять толпятся сотни тысяч людей, но теперь народ не пляшет трехцветной веселой пляски надежды, не пляшет еще и неистовой пляски ненависти и мщения, а молча выжидает со смутными догадками во взглядах и по преимуществу с холодным любопытством. Сент-Антуанский плакат возвестил утром, что всякий, кто оскорбит Людовика, "будет отодран шпицрутенами, а кто станет рукоплескать ему, будет повешен". Вот наконец эта изумительная новая берлина, окруженная синим морем национальных гвардейцев с поднятыми штыками, медленно текущим, неся ее, среди безмолвного сборища сотен тысяч голов! Три желтых курьера, связанные веревками, сидят наверху; Петион, Барнав, их величества с сестрой Елизаветой и Детьми Франции сидят в берлине.
Смущенная улыбка или облако тоскливой Досады появляются на широком, флегматичном лице Его Величества, который беспрестанно заявляет различным официальным лицам то, что и без того очевидно: "Eh bien, me voila" (Ну, вот и я), и то, что менее очевидно: "Уверяю вас, я не собирался пересекать границу", и так далее - речи, естественные для этого бедного коронованного человека, но которых приличие требовало бы избежать. Ее Величество безмолвствует, взгляд ее полон печали и презрения, естественных для этой царственной женщины. Так, громыхая, ползет позорное королевское шествие по многим улицам, среди молча глазеющего народа, похожее, по мнению Мерсье32, на какую-нибудь процессию Roi de Basoche или же на процессию короля Криспена с его герцогами сапожного цеха и королевскими гербами кожевенного производства. С той только разницей, что эта процессия не комична; о нет, связанные курьеры и висящий над нею приговор делают ее трагикомичной; она крайне фантастична, но в то же время и плачевно реальна. Это самое жалкое flebile ludibrium гаерской трагедии! Процессия тащится с весьма непредставительной толпой через многие улицы в этот пышный летний вечер, потом заворачивает и наконец скрывается от глаз зрителей в Тюильрийском дворце, идя навстречу своему приговору, медленной пытке, peine forte et dure.
Правда, чернь захватывает трех связанных веревками желтых курьеров и хочет убить по крайней мере их. Но наше верховное Собрание, заседающее в этот великий момент, высылает на помощь депутацию, и все успокаивается. Барнав, "весь в пыли", уже там, в национальном зале, делает короткое сдержанное сообщение. Действительно, нужно сказать, что в течение всего путешествия Барнав был очень деликатен, полон сочувствия и завоевал доверие королевы, которой благородный инстинкт всегда подсказывал, кому можно доверять. Совсем иначе вел себя тяжеловесный Петион, который, если верить г-же Кампан, ел свой завтрак, бесцеремонно наливая в стакан вино в королевской берлине, выбрасывал цыплячьи косточки мимо самого носа их величеств и на слова короля: "Франция не может быть республикой" - отвечал: "Нет, она еще не созрела". Барнав отныне советник королевы, но только советы теперь уже бесполезны, и Ее Величество удивляет г-жу Кампан, высказывая почти уважение к Барнаву и говоря, что в день расплаты и королевского триумфа Барнав не будет казнен.