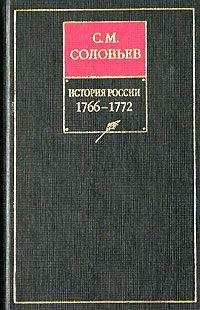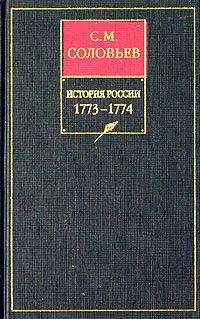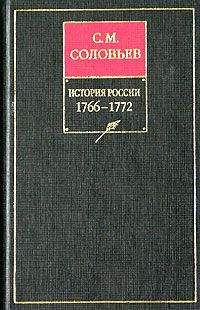Что касается характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву Дюмурье, был человек, преданный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный, у него было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества. Он был красноречив – качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. Единственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивил – совершенное животное; но это самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Собеского. Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу, они охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнию, но их социальная система, их конституция противятся их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело – это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и ног. Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть независимы. Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешли к женщинам. Женщины ведут дела, а мужчины наслаждаются чувственною жизнию. Дюмурье говорит в своих записках и о русских. «Это превосходные солдаты, – по его словам, – но у них мало хороших офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают».
Шуазелю трудно было иметь какой-нибудь точно определенный план относительно Польши; он имел в виду одно – всеми средствами вредить России – и потому поддерживал конфедератов в их борьбе с русским войском; готов был поддерживать и короля Станислава в его судорожных попытках сопротивления России. Так, Шуазель уверял эмиссара польского короля во Франции графа Хрептовича, что Людовик XV, довольный твердым поведением Станислава, будет помогать конфедератам только с условием, чтоб они соединились для поддержания его, Станислава, на престоле. Ободренный этим, Станислав поднял тон относительно России.
В письме своем от 21 февраля он изложил императрице Екатерине свои желания: «Я желаю, чтобы Польша была умиротворена скоро и прочно; но этого не может произойти, если нация не будет довольна, а нация не будет довольна, если она не действует сама собою, целым корпусом и законным образом. Для этого нужен сейм, которому должны предшествовать сеймики. Сеймики не могут состояться, если большинство нации не будет благоприятно расположено к делу. Это расположение может явиться только вследствие надежды получить то, чего нация желает более всего. Она может основать свои надежды только на прямом заявлении вашего величества. Нельзя повторять нации слов вашего посла; наученная опытом, она на них не полагается и не желает доверяться никому, кроме особы вашего величества. Чтоб я или кто другой мог успеть относительно предполагаемой конфедерации, надобно иметь возможность сказать приглашаемым принять в ней участие; вот куда именно я вас веду, вот основания моей уверенности в этом и вот чем вы можете быть удовольствованы. Я бы не стал торопить ваше величество, если б крайность наших бедствий не заставляла меня умолять ваше сострадание: голод грозит нас покончить. Треть наших полей в областях самых плодородных не засеяна, потому что весь хлеб захвачен; рабочий скот или съеден войсками, или погиб при постоянной перевозке магазинов. Я уже не говорю об уменьшении числа жителей, из которых одни погибли от оружия, другие, избегая бедствий, покинули отечество. Быть может, вам говорят, что все это должно ускорить покорность поляков, что принудить их отложить свое упорство – значит сделать им добро. Я должен уведомить ваше и. величество об общем расположении умов здесь: оно таково, что скорее согласятся терпеть и погибать, чем связать себя каким бы то ни было образом, прежде чем ваше величество удостоите возвестить прямо от себя, как вам угодно снизойти на желания поляков. Ваше величество, припомните, когда столько знатных людей посредством друзей своих действовали в пользу конфедерации 1767 года во всех областях, сколько, однако, надобно было войска, чтоб заставлять жителей подписываться, и сколько все же не подписалось по незнанию целей конфедерации. Сколько же понадобится теперь войска для дела, для которого не найдется нигде ни вождей, ни охотников национальных, не говоря уже о величайших насилиях, которые, конечно, не в видах вашего величества; если сила заставит поляков принять участие в этой конфедерации, то они получат только новые основания для будущего протеста, ссылаясь на то, что все сделано против их воли. Я друг вашего величества, всю мою жизнь я буду славиться этим титулом, но закон искренности обязывает меня сказать вам, что независимо от всех других условий нация всегда будет смотреть на мир как на дело насильственное, если он будет ей дан без содействия держав католических, она будет постоянно надеяться получить большее с их помощию, как только ваши войска удалятся из страны. На мне первом нация отомстит за принуждения, которым она подвергалась. В этом уверяют меня со всех сторон, и это-то дает мне новое право просить вас самым настойчивым образом согласиться на вмешательство католических держав в дело нашего усмирения».
«Из вашего письма, – отвечала Екатерина, – я с сожалением увидала, что вы все еще продолжаете доверяться людям коварным и скрывающим честолюбивые замыслы. Я не могу себе вообразить, чтоб ваше величество сами собою нашли возможным и благодетельным посредничество католических держав в настоящих делах Польши. Что до меня, то я так тверда в моих принципах и так предусмотрительна относительно последствий, что никогда не поддамся внушению, где хитрость и злоба обнаруживаются так ясно. Привыкши говорить откровенно и вам говорить правду, я прошу ваше величество обратиться исключительно к вашему собственному рассудку. Какие державы призовутся к посредничеству и кто их призовет? Я так расхожусь в видах с этими людьми, что не может произойти никакого согласия между их средствами и моими. Я хочу умирения Польши, удержания нации при ее правах и спокойствия короля на престоле, и я хочу всего этого безо всякого личного интереса и не руководясь интересом какой бы то ни было религии. Я не меняюсь по обстоятельствам, не хватаюсь за благоприятные события, чтоб поднять мои требования. У меня нет никаких претензий, мои первые слова суть священные обязательства. В заботы свои об умирении, которого никто не может желать более меня, я внесу такое же усердие и бескорыстие, и я покраснела бы от стыда, если б эти стремления мои имели надобность в иностранной помощи. Но чего хотят те, которые имеют такую нужду в ней и которые так сильно убедили в этой нужде ваше величество? Усилить настоящую смуту столкновением интересов, которого отечество их должно быть ареною, и посредством окончательной смуты уничтожить все сделанное до сих пор. Только в беспорядках и крайностях, которые должны быть их следствием, они могут найти благоприятное время для исполнения своих планов произвольного владычества».
Волконскому отправлен был рескрипт: «Упорство и легкомыслие короля польского ставят успеху дел наших немалые препятствия. Он, как видно, забыв благодеяния наши и собственную безопасность, не только вовсе ослабевает в преданности своей к интересам российским, но даже явно против них действует по руководству коварных своих дядей, которые его употребляют простым орудием для собственного властолюбия, внушив ему мечту о возвращении народной любви и доверия и о большей свободе быть впредь полезным своему отечеству. Но и то, с другой стороны, неоспоримая же истина, что такая ухватка стариков Чарторыйских приводить короля с нами в разногласие и с мятежниками польскими в некоторое видимое согласие не может ни для него, ни для них самих произвести никакого полезного действия, кроме того, что погрузить обе стороны в большее еще недоумение. Думаем, что временным и неестественным сближением разнообразных мыслей исполняется мера и дела мало-помалу склоняются к тому кризису, где им конечный перелом последовать имеет. Возможно ли себе представить, чтоб виды короля польского, дядей его, саксонского двора, польских возмутителей, которые все этому двору преданны, и враждебной нам Франции, все порознь направленные каждый к своей цели, могли теперь вдруг сосредоточиться в особе короля, последним троим равно ненавистного? Сколько бы король по лукавым советам дядей своих ни старался о примирении с мятущеюся частию народа, это примирение никогда достигнуто быть не может, и потому в ожидании перелома в делах, который из этих тщетных стараний скорее должен произойти, и надобно нам соблюдать в рассуждении короля некоторую умеренность, чтоб не отнимать у него всей надежды на будущее время, а в рассуждении возмутителей действовать всеми силами и бить их, где только удобность представится, не давая им нигде утвердиться и составить нечто целое и казистое, корпус республики представляющее, чтоб они по наущению Франции и Саксонии не могли объявить престол вакантным. Низвержение ныне царствующего короля, как ни мало надежен он для империи нашей по своему характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться ни со славою, ни с интересами нашими, потому что допущением этого низвержения в пользу ли курфюрста саксонского или другого кого подверглись бы мы пред светом ложному мнению, что либо Северная наша система сама по себе несостоятельна, или же что влияние наше в Польше против французского устоять не могло по недостатку естественных сил России, следовательно, и по невозможности уделить из них во время войны с турками столько сил, чтоб они первое одною Россиею воздвигнутое здание могли охранять от падения. Но положим, что мы сами по неблагодарности короля польского решились лишить его короны; кого же бы избрать такого, чтоб нации вообще был угоден, и интересам нашим не противен, и мог помочь нам в примирении Польши? Курфюрста саксонского исключает наша Северная система, а всякий другой Пяст соединял бы в себе все те же, а может быть, и большие неудобства, какие мы с нынешним королем встретили». Панин прибавил от себя: «По моему мнению, мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время польские дела их собственному беспутному течению, которое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того перелома, которым в. с-тво с лучшим успехом воспользоваться можете».