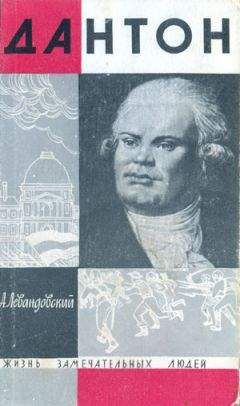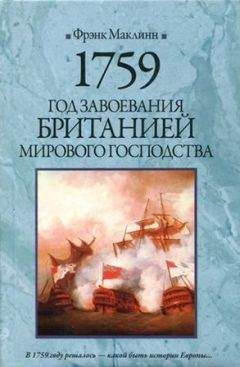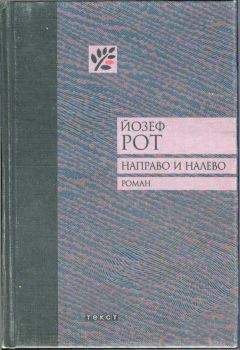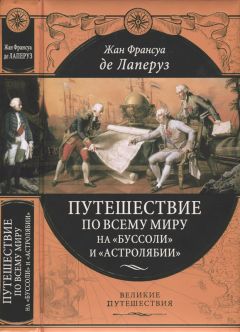Если бы Ролан подтвердил это заявление, оно могло бы удовлетворить Конвент.
Но Ролан не подтвердил.
Конвент отказался признать оправдания бывшего министра юстиции.
И все же Жиронда не смогла сокрушить Дантона. Она даже не рискнула возбудить против него судебное дело.
«Государственные люди» понимали, что вся Гора, весь революционный Париж, который они так ненавидели и так боялись, встанут на защиту своего трибуна.
Терпя временные неудачи в Конвенте, монтаньяры не оставались в долгу. Они били жирондистов в клубе.
Десятого октября Бриссо был исключен из Якобинского клуба, а вслед за своим вождем вынуждены были уйти и другие лидеры Жиронды. В тот же день якобинцы избрали своим председателем Жоржа Дантона.
Да, подобного человека одолеть было не так-то легко, это должен был уразуметь всякий. Но жирондисты добились одного: моральная репутация Жоржа в Конвенте была непоправимо испорчена.
И долго еще, вплоть до самого падения Жиронды, при каждой политической схватке из нижних рядов зала Манежа слышались злобные выкрики:
– Счета!.. Пусть Дантон представит свои счета!..
Все эти уроки не пошли впрок Жоржу Дантону. Жирондисты отвергали его так же, как некогда отвергли фельяны. Но подобно тому, как в прежние годы он не решился на полный разрыв с группой Барнава – Ламетов, так и сейчас он не хотел сжигать всех мостов на пути к примирению с Жирондой.
И, выступая в Конвенте 29 октября с обвинением против Ролана, он снова, причем в более решительной форме, отрекся от своего старого соратника – Марата:
– Я заявляю Конвенту и всей нации, что я отнюдь не люблю Марата. Я откровенно скажу, что испытал на себе его темперамент; он не только вспыльчив и брюзглив, но и неуживчив. После подобного признания да будет мне позволено сказать, что я стою вне всяких партий и заговоров…
Реплика эта по меньшей мере выглядела бестактно: зачем было докладывать высокому Собранию о темпераменте Друга народа, о его «неуживчивости»? Что и говорить, Дантон был много «уживчивее» Марата. Но помогло ли это ему? Все равно Жиронда не желала ни верить демагогу, ни сближаться с ним.
Столь же тщетными оказались все усилия, затраченные Дантоном на «смягчение» результатов ожесточенной борьбы, развернувшейся вскоре вокруг дела низложенного короля.
Однажды рано утром молодой мужчина, закутанный в дорожный плащ, позвонил у дверей квартиры на Торговом дворе.
Миловидная хозяйка впустила его и провела в одну из комнат. Там на кожаном диване лежал истомленный бессонной ночью Жорж Дантон.
Вошедший быстрым взглядом охватил комнату. Ее убранство показалось ему скромным; он знал, что владелец этой квартиры всего месяц назад был всесильным министром…
Дантон сразу узнал посетителя и вскочил с дивана. Он и Теодор Ламет несколько секунд изучали глазами друг друга. Затем Жорж спросил:
– Откуда вы и что делаете в Париже? Я слышал, что вы спаслись.
– Я прибыл из Лондона.
– Вы сошли с ума! Или вы не знаете декрета о смертной казни для эмигрантов?
– Нет, я помню о нем. Но ведь вы спасли жизнь моего брата. Единственное, чем я могу выразить свою признательность, это отдать и мою жизнь в ваши руки. Но я не считаю это своим особым достоинством, ибо, не зная всех преступлений, на которые вы способны, я отлично знаю, на какие преступления вы не способны.
– Вы никогда не щадили меня. Но я готов принять даже этот сомнительный комплимент. Однако к делу. Что привело вас ко мне?
– Вы сами догадываетесь, видя меня во Франции.
– Да, очевидно, речь пойдет о короле…
Беседа была долгой. Ламет страстно пытался убедить своего друга-врага в добродетелях Людовика XVI, в его невиновности, в коварстве его противников, использовавших слабость монарха. Он старался доказать Жоржу, что король неподсуден революции.
Дантон пожал плечами.
– Детские рассуждения!
Он напомнил собеседнику судьбу Карла I.[28]
– Думаете ли вы, – усомнился Ламет, – что большинство Конвента осудит короля?
– Без сомнения. Если его станут судить, он погиб. Он будет мертв в тот момент, когда предстанет перед судьями.
Ламет напомнил, что в Конвенте командуют жирондисты, что они могут повлиять на большинство и спасти короля.
Дантон с хохотом прервал его:
– Прекрасное средство! Жирондисты – вот кто повинен в теперешнем положении короля. Они напуганы. Они произнесут блестящие речи и кончат тем, что все приговорят его к смерти.
Ламет уверял, что казнь Людовика вызовет жесточайшую ненависть Франции и всей Европы к революционерам.
Дантон иронически поднял брови.
– Сообщите об этом Робеспьеру, Марату и их поклонникам.
Ламет терял выдержку.
– Но, наконец, вы, Дантон, чего вы желаете и что вы можете?
Наступило продолжительное молчание. Наконец, твердо произнося каждое слово, Жорж сказал:
– Вы спрашиваете меня, что я могу и чего хочу? Я отвечу вам вопросом на вопрос: что может сделать даже самый популярный человек в положении, в котором мы находимся? Кончим наш разговор. Я не хочу казаться ни лучше, ни чище, чем я есть на самом деле. Я доверяю вам. Так вот мои мысли и намерения: не будучи согласен с вами, что король безупречен, я считаю все же справедливым и целесообразным вырвать его из этого положения, в котором он находится. Я постараюсь осторожно и смело сделать то, что смогу. Я сделаю все возможное, если у меня будет хоть один шанс на успех. Но если я потеряю всякую надежду, объявляю вам: я не желаю, чтобы моя голова пала вместе с его головой. Я буду среди тех, кто его осудит.
– Но зачем вы, Дантон, – воскликнул Ламет, – прибавили эти последние слова?
– А для того, чтобы быть искренним, как вы от меня требовали. Впрочем, – резко оборвал он, – довольно об этом. Подумайте лучше о себе…
Так описал Теодор Ламет много времени спустя тот разговор, который он якобы имел с Дантоном в конце октября 1792 года. Что здесь правда и что вымысел? Установить это невозможно. Однако, пожалуй, правды больше, чем вымысла. Совсем посторонние этому разговору факты и документы в общих чертах подтверждают главную нить рассказа Теодора Ламета.
Судьба короля занимала в те дни не только частных лиц.
Она волновала весь Париж, всю Францию, всю Европу.
И голодные санкюлоты, забывая личные печали и нужды, все свое внимание отдавали Конвенту – священному алтарю народных представителей, где эта судьба должна была вскоре решиться.
Вскоре – так думал народ, так считали его избранники, демократы-якобинцы. Иначе быть не могло – ведь король главный преступник: на его совести лежат тысячи жизней – жертв Марсова поля, Нанси, Тюильрийского дворца. Без наказания вероломного тирана республика не может быть ни утверждена, ни упрочена…
Но жирондисты, верховодившие в Конвенте, рассуждали совершенно иначе. С горем пополам согласившись на ниспровержение монархии, они вовсе не хотели зла бывшему монарху. Он был нужен им как заложник, как инструмент, с помощью которого они могли бы постоянно давить на своих врагов. Кроме того, они совершенно не чувствовали уверенности в незыблемой прочности республики: восстановление королевской власти казалось им вполне вероятным. И прав был Робеспьер, утверждавший, что друзья Бриссо выглядели «республиканцами при монархии и монархистами при республике» – последнее они ежедневно и ежечасно доказывали своим поведением.
В течение второй половины сентября и всего октября жирондисты вели бешеные атаки против Горы, «триумвиров», демократического Парижа – где уж тут было заниматься делом Людовика XVI!
Законодательный комитет, которому надлежало подготовить вопрос о короле, тратил бесконечные недели на изучение тонкостей судебной процедуры и выслушивание длинных докладов. Бриссотинцы стремились упрятать короля за конституцию 1791 года, доказывая, что он неприкосновенен, а вследствие этого не может быть и судим.
Первый удар по планам Жиронды нанесла знаменитая речь Сен-Жюста.
Четырнадцатого ноября этот холодный юноша своим строгим, логическим красноречием вдребезги разбил все хитросплетения и аргументы противников.
Сен-Жюст утверждал, что короля вовсе не следует судить с точки зрения обычного права. Дело идет не о судебном процессе, а о политическом акте: Людовик XVI – враг целой нации, и к нему должно применить только один закон – закон военного времени…
После этой речи, тем более сильной, что произнес ее совсем еще молодой и никому не известный депутат, Конвент дрогнул. Казалось, он сейчас же провозгласит себя судебной палатой и вынесет решение о процессе.
Но тут на трибуне появился Бюзо, бездушный и едкий обожатель Манон Ролан.