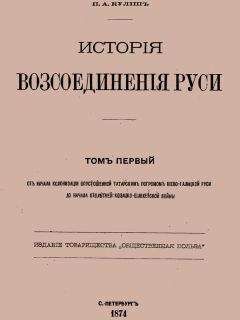Гетман отправил одни хоругви за бежавшими, а другие ворвались в замок и там изрубили всех казаков, как видно по рассказу, павших с оружием в руках. Когда кровопролитие кончилось, жолнеры нашли Нечая во гробу, над которым стояли попы и, не обращая внимания на тревогу, молились об упокоении души казацкого лыцаря.
23 (13) февраля коронный гетман сжег в Красном город вместе с замком, и двинулся в Мурахву, где собралось 2.000 казаков под начальством сотника Шпака, которого украинская песня представляет виновником оплошности Нечая:
Як заквилить-крикне пугач
Із темного гаю:
Загукали козаченьки:
Втікаймо, Нечаю!
Не честь мені, не подоба
Зараз утікати,
Славу мою козацькую
Під ноги топтати.
Є у мене Шпак Шпаченко,
Козак вдовиченко;
Ой той дасть Нечаю знати,
Коли утікати.
Если шляхта столь часто помышляла о бегстве, то казаки, родные чада шляхты, думали о нём еще чаще, и в таких случаях оказаченные города свои оставляли на произвол судьбы. Шпак Шпаченко убрался из Мурахвы куда-то к Днестру, который прежде был седалищем шляхетской, а теперь сделался притоном казацкой вольницы, как река пограничная. Мещане и мужики прозелиты казатчины затворились было в городе, однакож, не возмогли стоять против жолнеров и перешли из города в замок.
Здесь опять они сплоховали, выдали пушки и порох, принесли присягу и представили одного иссреды себя, как зачинщика бунта; наконец просили гетмана оставить у них в замке гарнизон, который бы защищал их от своевольных людей. Но разбой и грабеж был давнишнею болезнью Речи Посполитой Польской, особенно в Украине. Восстановители порядка, панские жолнеры, начали разбивать коморы, грабить провизию, мед и все прочее совершенно так, как это делали нарушители оного, казаки, со времен Гренковича, Косинского и Наливайка. Между гетманом и воеводою началась уже ссора за Нечаев пернач, и недавний татарский пленник, в пику герою Збаражского осадного сиденья, велел повесить одного из его жолнеров.
По словам лучшего из польских мемуаристов, Калиновский усмирил жителей Мурахвы лишь настолько, «насколько это было возможно в то время». Житейское море в Речи Поеполитой было воздвизаемо бурею напастей с разных сторон, и тихое пристанище обрели наконец только вопиявшие к Тишайшему Государю, да и в его страну казаки внесли волнение, продолжавшееся до времен Екатерины Великой.
Февраля 27 (17) войско двинулось в Шаргород. «Мещане этого города» (пишет Освецим) «озаботились заблаговременно своею безопасностью: за два дня до прихода войска, они прислали к гетману изъявление своей покорности и высказали готовность, как верные королевские подданные, впустить войско в город. Обещания свои они действительно сдержали. Когда войско простояло несколько дней на квартирах в Шаргороде, прибыла к гетману депутация от мещан из Черниевец с заявлением готовности выдать оружие и принести присягу верности; точно так же поступили и другие близлежащие города.
Повторялось то же явление, что и во времена похода Жовковского за Сулу. Бедный народ не знал, как ему быть между двух сил, из которых одна была своя, с примесью польщины, а другая своя, с примесью татарщины. Против первой вооружали его, без сомнения, натерпевшиеся от унии и от могилян попы; против другой не вооружал его никто, но казаки были друзья только до черного дня, и, кроме того, за казакованье с казаками приходилось ему рано или поздно считаться с панами, а не то — платить Орде за её помощь против панов своими женами, детьми и самими собою.
Но как бы ни были правы, даже святы, паны в собственном сознании и во мнении католической Европы перед русским населением Польши, — казуистическое насилие общего их правительства над русскою совестью по отношению к благочестивым предкам и грекорусской старине отчуждало их на веки от участия в тех правах на обладание древним русским займищем, которые присвоивали себе исключительно люди веры христианской, а такими людьми, по национальному, выработанному малорусскою церковью воззрению, были только те, чьи русские кости не обросли польским мясом, — те, которые не ходили на совет нечестивых, не стояли на пути грешных, не сидели на седалищах губителей; нечестивыми же, грешными и губителями, по суду афонских да печерских мужей Россов, вынесших в целости нашу национальность из потонной польщизны, были, как мы уже знаем, все князья и все паны без исключения. Не понимают, не хотят понять этого полономаны и в наше время; а в тот хаотический век мудрено было понять правду подобного суда Калиновским, Лянцкоронским и Киселям. Они только видели, что прут против рожна, и их раздражительность, равно как и их снисходительность, кротость, уступчивость были одинаково для них вредоносны. Тот же самый народ, который в одном городе казался им доверчивым, в другом с ними лукавил, а в третьем являлся диким. Кто правил умом и чувствами миллионной массы в её переменчивости, никогда бы паны не доискались, потому что сказанное шепотом слово делало с нею дивные превращения.
В начале римского марта Калиновский двинулся к Стине, в которой заперлись казаки и мужики из разных других местечек. На походе встретило его двое мещан из Стины с просьбою о мире от всех жителей, и взялись проводить панское войско. Но в окружавшие Стину хутора набежало множество мужиков, вооруженных самопалами, луками и другим оружием. Они стали стрелять, произносили угрозы, крутили ляхам дули [36] и даже выставляли задние части тела. Долго это христолюбивое воинство защищало вход в хутора и в нижний город, наконец его прогнали, овладели хуторами и нижним городом.
Защитники нижнего города отступили в верхний, обороняемый местоположением.
Попытка взять его приступом оказалась безуспешною. Начались переговоры.
Осажденные предлагали окуп в 4.000 злотых и просили гетмана пощадить их, уверяя, что они — верные подданные калусского старосты, Яна Замойского. Видя, что силой нельзя с ними ничего сделать, Калиновский согласился на контрибуцию, и удовлетворился только тем, что потребовал от них присяги. Но, присягнув, мещане доставили только 1.000 злотых. По общему совету, гетман возвратил им и эти деньги.
Неизвестно, что было говорено на панской раде, но дальнейшие поступки панов были верхом безрассудства. Отступив к Черниевцам, они оставили в одной долине близ города засаду. Ничего не опасаясь, мужики вышли из города на опустевшее панское становище. Тогда жолнеры бросились на них из засады с татарским криком Галла! Галла! и перебили их до полусотни.
«В тот же день» (пишет Освецим) «гетман послал полки князя воеводы русского и пана коронного хорунжего в местечко Ямполь. Они захватили Ямполь ночью врасплох, перерезали поголовно всех житеией и овладели богатою добычею; а войско, отступив от Стины, расположилось на трехдневный отдых в Черниевцах».
Другой мемуарист, называемый мною Анонимом, не только не видел в этом акте безрассудной свирепости, но распространился о нем сочувственно, точно наши историки о свирепости казацкой.
«Лянцкоронский» (пишет он) «вознамерился овладеть Ямполем, гнездом, как волошских, так и наших разбойников, а между тем пошла молва, что гетман Калиновский двинулся под Винницу. Лянцкоронский подступил к Ямполю секретно: ибо секрет на войне — душа триумфов, да и в мирное время секрет хорошее дело, потому что, разгласив, что думаешь, редко задуманное сделаешь.
Курица кудахчет, снеся одно яйцо, а ястреб ловит птиц потихоньку. Поэтому Ямполь ничего не опасался, да еще на то время собралась там ярмарка. Тихохонько подошли хоругви и вступили в отворенные ворота. Мещане только что проснулись, и стали отворять крамные коморы (kramy), как рынок наполнился польским войском.
Ударили в колокола, крикнули на оборону, но поляки стояли уже с голыми саблями над шеей. Все-таки мещане хотели защищаться, а приезжие бросились толпой бежать, но мост на реке обрушился. Обороняющиеся мещане были перебиты; ограбленный город был зажжен, а сколько Ямпольских мещан и гостей заходящее солнце оставило в покое, всех нашло оно вырубленными. Погибло там десять тысяч народу обоего пола, в том числе и три полка бунтовщиков. Достатки их расхватала жолнерская челядь».
Что эти похождения были делом произвола Калиновского и Лянцкоронского, видно из письма Адама Киселя, которым он старался ослабить впечатление, какое они должны были сделать в Украине.
Называя Хмельницкого милостивым паном гетманом, любезным паном и братом, Кисель писал, что от начала вселенной, «при костеле, а по нашему при церкви Божией», злой дух устраивает свою капеллу; что он, Кисель, вместе с Хмельницким, постоянно хлопотал о том, как бы спасти от гибели последнюю горсть русского народа (один ополячивая, другой отатаривая); что Хмельницкий верноподданнически горовал (horowal) и трудился для того, чтобы потушить вспыхнувший пожар, но что Нечай, которому де ныне да оставит Господь его прегрешения, привык было, без гетманского ведома, творить всякое зло: зазывать татар против соотечественников, проливать кровь, избивать шляхту. «Так и в последнее время» (писал Кисель) «он овладел артиллерией в Брацлаве, двинулся к Линцам и напал на квартиры польского войска, понося письмами и на словах знатных вождей и гетманов». Узнав де об этом столкновении и имея в виду охранение мира, он, Кисель, удержал королевским именем полевого гетмана и брацлавского воеводу от дальнейшего движения за пограничную черту, и теперь комиссия спокойно ожидает начала своего действия, а он де, Кисель, и полевой гетман, которого письмо к Хмельницкому при сем прилагается, считают мир ненарушенным. Когда комиссия откроется, брацлавский воевода предъявит в её заседании плюгавые письма и угрозы Нечая. Король де глубоко сожалеет об этом поступке и о возникшей ссоре, но уверен, что все это случилось без ведома Хмельницкого, и желает, чтобы комиссия поскорее начала свои действия, дабы собранные военные силы соединились против общего врага.