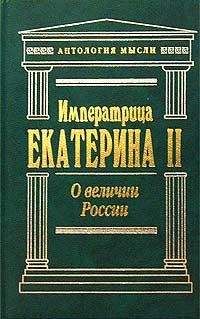После этого праздника Лев Нарышкин стал снова у меня бывать. Однажды, желая войти в мой кабинет, я застала его там нахально развалившимся на канапе, которое там находилось, и распевающим бессмысленную песню. Видя это, я вышла, захлопнула за собою дверь и тотчас же пошла за его невесткой; я ей сказала, что надо взять хороший пучок розог и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розог, обвязанных крапивой; мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяна Юрьевна, и мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Нарышкина на том же месте распевающим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удСтр. 667
рать от нас, но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли в течение двух-трех дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртаг, а был принужден оставаться у себя. Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию, видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь, в той степени по крайней мере, в какой он делал это до сих пор.
В августе месяце мы узнали в Ораниенбауме, что 14 августа было дано сражение при Цорндорфе - одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наши потери в офицерах были значительны и превосходили 1200. Нам объявили об этом сражении, как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыша сражения, что, наконец, на третий день прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор - на поле сражения. Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких друзей и знакомых; долго слышны были одни сожаления об этом дне; много генералов было убито, ранено или взято в плен. Наконец было признано, что генерал Фермор вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыковаclxiii, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермера. Для этого выписали графа Салтыкова из Украины, где он имел команду, а пока отдали командование армией генералу Фролову-Багрееву, но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцеваclxiv и князя Александра Голицынаclxv, шурина Румянцева.
Стр. 668
Последнего обвинили в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в десять тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду, то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей. Граф Румянцев этого не сделал, и, когда его шурин, князь Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о бойне, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел его видеть после этого, обходясь с ним, как с трусом, каковым князь Голицын не был, и вся армия была более убеждена в неустрашимости последнего, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы.
Императрица находилась в начале сентября в Царском Селе, где 8 числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в двух шагах от Северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва обедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо, вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и, дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств, среди толпы, или, вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню. Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви, но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти.
Императрица была очень рослая и полная и не могла упасть разом, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом; этот последний пришел первым и нашел, что самое неотложное - это пустить ей кровь тут же, на земле, среди и в присутствии всего этого народа, но она не пришла в себя.
Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле; это был покойный Кондоидиclxvi, грек родом, а хирург - Фузадьеclxvii, француз-эмигрант. Наконец, принесли
Стр. 669
из дворца ширмы и канапе, на которое ее поместили; лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство; но, открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она. Все это длилось более двух часов, после чего решили снести Ее Императорское Величество на канапе во дворец.
Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность события еще увеличивала его печаль: до сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным.
На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще и в частности еще то, что лично касалось императрицы; но было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с Ее Императорским Величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы. Мы не преминули сделать это на следующее воскресенье и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком и что она еще не могла говорить без затруднения; говорили, что во время обморока она прикусила себе язык.
Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсий, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город. Так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для великого князя, потому что, когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к Его Императорскому Высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому Его Императорское Высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя, в присутСтр. 670
ствии Льва Нарышкина и некоторых других: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность; я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо с пылу.
Я, понятно, испугалась таких речей и сказала ему: «Вы все ветреники; потребуйте от него клятвы, что он не спал со своею женою, и скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору Империи». Лев Нарышкин пошел действительно к Его Императорскому Высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: «Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом».
Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили, и я с тех пор увидала, что на мой выбор предоставлялись три дороги, одинаково трудные: во-первых, делить участь Его Императорского Высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть с ним или через него, или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался; открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представится, и в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая, с другой стороны, в обществе мои интересы так, чтобы оно видело во мне, при случае, спасителя государства.