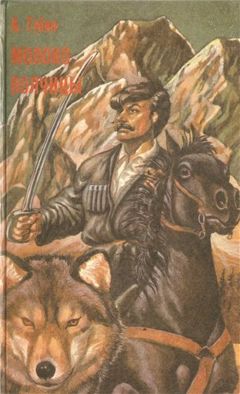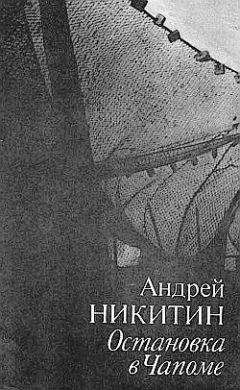«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями… и пятна нет на тебе… О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина… Запертый сад сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник… Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его… Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!..
Прекрасна ты, возлюбленная моя, и грозна, как полки со знаменами… Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее стрелы огненные; она пламень весьма сильный…
Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня…
Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей»…[12]
Однажды Антон принес бутылку прасковейского вина. Устроили пир на полу, на ковре, в трепетном свете зеленой лампады, заправленной керосином.
Вдвоем! оставляя былое! — в безмерные дали!
И пили вино золотое, и в думах летали
о хижине, милой и тесной, где жизнь бы их крепла…
О Фениксе, птице чудесной, что встанет из пепла…
Шутливую строчку ковала. То станет молиться.
То нежно ему куковала любви небылицы —
они, хоть и лгут, не опасны, как музыка скерцо.
О милые бредни! О басни влюбленного сердца!
Вас слышал давно я. Вас помнят
в лабиринтах Арбата холодные сумерки комнат,
где жил я когда-то…
Ненастным вечером Невзорова возвращалась под проливным дождем домой. От тусклого фонаря шагнул к ней человек в короткой бурке, глянцевито-желтых крагах, укутанный, как абрек, башлыком.
— Добрый вечер, Наталья Павловна.
— Добрый вечер, — оробела она, жалея, что не взяла с собой отцовский маузер, время было лихое.
— Я Севастьянов, друг вашего покойного отца, я хоронил его и снял медальон с портретом вашей матери.
Она была доверчива и впустила позднего гостя. Он действительно передал ей золотой медальон.
Гость заметил, что она прислушивается, глядя на дверь, — с минуты на минуту должен прийти Антон.
— Я понимаю ваш трепет, — сказал он, — и хочу скорее покинуть вас, но мне нужна ваша помощь.
— Какая?
— Пропуск на выезд.
— Вы… служите сейчас?
— Нет, я не белый, не красный, разумеется, был офицером, но давно сломал свою шпагу, как адмирал Колчак. К тому же я топограф, наука моя нейтральная, далека от политики.
— Куда вы хотите ехать?
— В любой приморский город. Я вышел из игры. У меня есть небольшие деньги в швейцарском банке — наследство.
— Я ничего не могу.
— Вы накоротке с комендантом.
— Откуда вы знаете?
— Я присутствовал при вашей лекции ему в лечебнице — сидел за панелью гардероба. Я приехал сюда с большим риском, чтобы передать вам медальон, меня чуть не схватили, и я не знал, что отсюда так трудно выбраться.
— Печать у коменданта, а не у меня.
— Между нами: ваш дядя Николай Андреевич поднял мятеж против красных на Дону. И вам, и коменданту это может повредить. Вам нужно переменить фамилию, выйти замуж за коменданта.
— Кровное родство не в счет, я не видала дядю лет десять.
— Умный человек поймет это, а какой-нибудь пролетарий просто решит: в расход.
— Сейчас война классовая, а не родовая. Комендант Синенкин тоже был есаулом.
— Об этом надо стараться не упоминать — могут припомнить, ибо по замыслу всех революций пашню жизни может удобрить лишь кровь аристократа. Слово дворянина: о вашей помощи не узнает никто, я уеду.
— Я не могу обещать, но поговорю с комендантом… он сейчас придет.
Человек ушел на башню. Вскоре лязгнула щеколда двери — явился Антон.
— Ты уже приготовила свой кизиловый чай? — спросил он.
— Это не твой стакан. Здесь был один человек.
— Кто? — насторожился комендант.
— Друг моих родителей, ученый. Он дворянин. Просит помочь ему незаметно уехать. Его наука отдалена от политики. Он привез мне медальон отца. Вот он.
— Что же он просит?
— Пропуск, мандат какой-нибудь, бумажку.
— Это не по моей линии.
— По твоей.
— Ты настаиваешь?
— Да.
— Любовь довольно быстро вспоминает о своих правах, — садится любимому на шею, судит, указывает, подгоняет. Честно говоря, я не хотел бы этого. Человека твоего надо проверить — точно ли он ученый и точно ли ему надо уехать.
— Ты ставишь меня в неловкое положение, я обещала ему помочь, а получается, что выдам его.
— А если он вражеский лазутчик?
— Вы помешаны на врагах, даже своих подозреваете. Если ты арестуешь его, то арестуй и меня!
— Он дворянин, и он не перешел на сторону народа.
— Я тоже дворянка. Тот, кто бежит, тот не враг. Его арест будет вечным пятном крови на моей любви, если это любовь.
— Где он?
— Сначала обещай помочь ему.
— Я должен поговорить с ним.
— Он мой гость, рядом.
— Надеюсь, он не станет стрелять. Зови. — Все же Антон положил руку в карман — на кольт.
Это был старик, седой, с трагически жалким лицом. Он низко поклонился и молчал.
— Чем вы занимались последний год? — спросил комендант.
— Скрывался от людей, и только.
— Как мне верить вам?
— Мне шестьдесят семь лет, и если вы были офицером, то, конечно, учили топографию по моему учебнику. Я Севастьянов, полковник.
— Почему вы не стали служить революции?
— Я стар. И потом, мое происхождение. При нынешнем положении я потенциальный наследник дома Романовых.
Антона кинуло в пот.
— Я никогда не имел связи с двором, был в опале, даже сидел в молодости в тюрьме, у меня была громкая история — всего не расскажешь, потом меня забыли, и я занимался любимым делом — топографией. Я не скрываю, что хочу эмигрировать, но лишь для того, чтобы дописать свой главный труд, коего пять томов выпущены, а три остались в набросках.
— Я дам вам мандат в Москву и напишу письмо Свердлову, оставайтесь в России — ученые не отменяются.
— Это невозможно по многим причинам. Я не сочувствую революции, но я и не враг ей.
«Избегайте лишней крови!» — постоянно говорил Денис Коршак своим товарищам.
— Я очень прошу тебя, Антон, помоги ему уехать, сделай ради моего покойного отца, ведь и он помог тебе когда-то, — заплакала Невзорова.
И комендант, подумав, сказал:
— Хорошо, через час идет поезд в Екатеринодар. Дальше белые. Я посажу вас в него. Сумеете уехать — ваше счастье.
— Спасибо.
Они ушли.
Наталья Павловна задумалась над портретом военкома, что-то пририсовала.
Вернулся комендант. Тоскливо сыпал пшено соловью, раскрывавшему клюв в клетке. Потрогал куклу. Вспомнил слова Коршака: тот, кто не с нами, враг.
— Я, пожалуй, пойду, — направился он к выходу.
— Нет, нет! — почуяла она неладное, схватив его за руки.
— Тогда одевайся ты. Мы предстанем перед ревтрибуналом.
— Антон, милый, ты что?
— Гражданка! Именем Советской власти — вы арестованы!
— А ты — ты тоже арестован? — проснулась в ней злость за все тяготы последнего времени.
— Да. Я конвоирую двоих…
— Но ведь это все, конец…
— Это решит трибунал.
С ней сделалась истерика. Он вынужден был держать ее, перенести на кушетку. Она успокаивалась. Незаметно он сам, обессиленный, задремал. Прошло не более трех минут — и он вскочил, поправил портупею с кольтом, негромко сказал:
— Извини, я виноват один…
Подошел к холсту. Портрет был почти готов. Под ногами гунна-завоевателя осколки цивилизации. Над головой вечный Батыев путь. Сзади туча — неисчислимые орды. На плечах совсем свежая краска — то ли отблеск звезд, то ли золотятся погоны, древний воинский знак. Погоны в те дни срубали вместе с плечами, особенно золотые.
— Это зачем погоны? — нахмурился комендант.
— Так я вижу тебя.
— Соскобли. Прощай. Я конвоирую одного себя.
Дождь лил не переставая. В клетке умирал соловей. Лежала японская кукла. И безвольно, как кукла, лежала Невзорова.
Из комендатуры Антон позвонил по линии — задержать в вечернем поезде пассажира и дал приметы.
Перед утром пришло сообщение: пассажир задержан, передан в руки революционного правосудия.
Пришел Денис Коршак. Лицо у коменданта серое.
— Опять не спал? — спросил он Антона.
— Спал, да плохо.
— Как с креста снятый. Надо дать тебе передышку. Нездоров ты.
— Слушай, Денис, закрой-ка дверь…