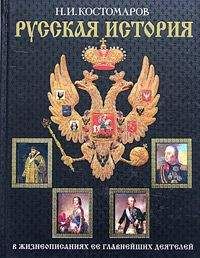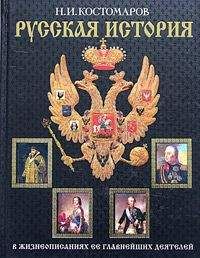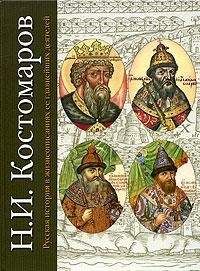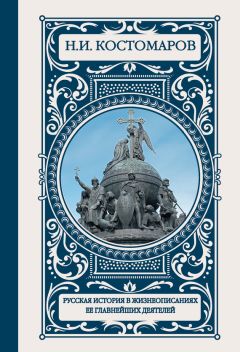Чернышова сообщила такой ответ императрице, не сказавши ей, что ходатайствовала за Биронова сына. Императрица обрадовалась, а Бирон поневоле должен был притаиться со своими желаниями и притворяться перед императрицей, что разделяет ее удовольствие. Брак принцессы с брауншвейгским принцем состоялся в июле 1739 года. С тех пор Бирон возненавидел новобрачную чету и при всяком удобном случае рад был ей делать неприятности, хотя и должен был скрывать свои чувствования, чтоб не раздражить императрицы. Что касается до принцессы, то, ставши женою нелюбимого человека, она продолжала оказывать к нему холодность. Впоследствии принцесса укоряла кабинет-министров, устроивших этот брак в политических видах, и говорила Волынскому: "Вы, министры проклятые, на то привели, что за того пошла, за кого не думала, и все вы для своих интересов к тому привели". Волынский ответил ей, что "действительно, принц Антон-Ульрих очень тих и несмел в своих поступках: это его недостаток; но это может послужить ей же к пользе: он будет ей послушен; а хуже было бы, если б она вышла за Петра Бирона и находилась вместе с мужем под несносным гнетом его отца, любимца государыни. И сам Петр Бирон, человек запальчивый и сердитый не менее как родитель его". Зная, что между супругами нет любви, Бирон, может быть, из чувства мщения, хотел раздуть между ними несогласие, чтоб насолить им обоим. Желая избавиться от постоянного надоедливого наблюдения над собою любимца императрицы, принцесса испросила у тетки-государыни назначить 80000 рублей для устройства особого двора для нее и ее супруга. Но Бирон убедил принца брауншвейгского отказаться от такого намерения, представляя ему, что тогда он будет находиться в зависимости от своей жены, которая его не любит; а в доказательство того, что она его не любит, Бирон открыл принцу Антону-Ульриху, что принцесса отвечала ему, Бирону, когда он, по поручению императрицы, говорил о браке с принцем.
Бирон в это время начал расходиться с Остерманом. До того времени, хотя полной искренности между ними никогда не было, но Остерман дорожил благосклонностью такого могучего лица, каким был Бирон, и долгое время старался угождать ему. В последнее время Бирон в разговорах с приятелями обвинял Остермана в двуличности и хитрости; иными словами - Бирон раскусил, наконец, Остермана и стал остерегаться его, хотя и был уверен, что в том высоком положении, в каком сам находился, Остерман не в силах повредить ему. Удаляясь мало-помалу от Остермана, Бирон сошелся с другим человеком, недавно возведенным на высокую ступень. Это был Алексей Петрович Бестужев, заступивший в кабинете министров оставшееся праздным место казненного Волынского. Алексей Петрович был сын Петра Михайловича Бестужева, бывшего некогда управителем двора в Курляндии и любимцем Анны Ивановны, впоследствии потерпевшим от нее опалу. Алексей Петрович посвятил себя дипломатическому поприщу, но в царствование Анны Ивановны несколько лет сряду держали его в тени. Когда он находился резидентом в Гамбурге, донос, поданный ему Милашевичем-Красным на смоленского губернатора, дал ему возможность выдвинуться и повыситься. В 1734 году Алексей Петрович был переведен из Гамбурга в Данию. Кабинет-министр князь Алексей Михайлович Черкасский негодовал на Бестужева, который дал ход доносу Милашевича-Красного, и вследствие этого родственник кабинет-министра - смоленский губернатор был сослан в Камчатку. Бестужев, впрочем, ничуть не был виновен в опале смоленского губернатора, потому что не сделал ничего более, как только переслал поданный ему донос в тайную канцелярию. Негодование кабинет-министра князя Черкасского против Бестужева должно было смолкнуть после того, как Милашевич-Красный в 1739 году сам сознался, что оклеветал напрасно смоленского губернатора. После падения Волынского, Алексея Петровича перевели в Петербург. Тонкий и искусный дипломат, зная могущество герцога курляндского, он подделался к нему и вскоре сблизился с ним самым тесным образом. При всесильном покровительстве Бирона, Бестужев получил место в кабинете министров. Бирон думал иметь в нем противовес Остермановым хитростям, иными словами - надеялся найти в нем именно то, чего искал и не нашел в Волынском.
В августе 1740 года принцесса Анна Леопольдовна разрешилась от бремени сыном, который при крещении был наречен Иваном. Событие это для многих показалось нежданным, так как при дворе знали, что принцесса удалялась от своего нелюбимого супруга. Рождение этого младенца доставило радость императрице, но на ее любимца навело такое уныние, что он несколько дней никого не допускал к себе и ни с кем не говорил.
Вскоре за тем произошло другое важное и роковое событие. Уже давно императрица страдала недугом; как кажется, у ней была каменная болезнь. Предшествовавшее лето она провела в Петергофе, и к концу лета ей становилось хуже. По возвращении в Петербург, 5 октября, в воскресенье в 2 часа императрица по обычаю села обедать со своим любимцем. Вдруг ей стало дурно, и она упала без чувств. Ее подняли и уложили в постель.
Первым делом окружавших государыню сановников было подумать о престолонаследии. Воля государыни была известна: она уже объявляла, что желает назначить себе преемником сына принцессы Анны Леопольдовны, двухмесячного ребенка - Ивана Антоновича. Но вопрос был в том - кто будет в качестве регента управлять государством до совершеннолетия нового государя, еще лежавшего в колыбели. Первый Бестужев заявил, что всего подручнее эту важную обязанность возложить на герцога курляндского. Несколько дней прошло в размышлениях и толках: приходилось повозиться с Остерманом, а тот уклонился прямо заявить свое мнение об этом и только тогда, когда увидал, что большинство сановников склоняется на сторону Бирона, - сам подал голос за него. Миних, хотя не терпел курляндского герцога, не только объявил себя в пользу его назначения, а еще сам упрашивал его принять на себя этот сан. Больная государыня удержала у себя представленный ей манифест о престолонаследии и проект о регентстве Бирона. Она давно уже страшилась смерти и отклоняла от себя все, что могло ей напоминать о смертном часе; таким образом, давно уже было запрещено провозить и проносить покойников мимо дворца, чтоб не беспокоить государыни видом, возбуждающим в ней мысль о собственной кончине. Тогда Бестужев составил так называемую "позитивную декларацию", в согласии с другими сановниками, и положил ее в кабинете министров: в ней выражено было, будто вся нация желает, чтоб не иной кто, а непременно герцог курляндский, в случае преждевременной кончины императрицы, стал регентом государства впредь до совершеннолетия будущего императора. Стали приглашать к чтению и к подписи этой декларации всех наличных особ первых четырех классов. Набралось таким образом 197 подписей. Не должно думать, чтоб число это состояло из искренних приверженцев герцога курляндского. Большинство подписывалось, следуя примеру подписавшихся прежде их; те же, которые подписались, не повинуясь примеру других, делали это из страха: нельзя было положительно сказать - умрет ли государыня или выздоровеет. Врачи находили ее болезнь очень опасною, но и не уничтожали надежды на возможность ей поправиться; все соображали, что если Анна Ивановна выздоровеет, то не простит тем, которые не показали любви и доверия к ее любимцу: судьба Волынского представляла тому свежий пример. Фельдмаршал Миних поступил по такому же соображению, как о том свидетельствует сын его в своих записках.
Впоследствии Бирон в своей записке, писанной с места своего заточения в Ярославле императрице Елисавете Петровне, уверял, будто он вовсе не думал и не хотел принимать на себя регентства, будто на коленях просил государыню освободить его от такого бремени; но источники современные говорят совсем иное, именно - что Бирон, хотя наружно и отказывался от предлагаемой ему чести, но прежде тайно направлял Бестужева, который первый произнес о том слово в собрании сановников; да и сам герцог курляндский в этом собрании доказывал, что нельзя давать регентства ни матери, ни родителю будущего императора. По всему видно, между Бироном и Анной Ивановной происходил разговор о регентстве, но Бирон не представил его в своей записке в настоящем виде. Есть основание полагать, что Анна Ивановна сама не хотела давать регентства принцессе Анне Леопольдовне и ее супругу, из опасения, что они подпадут под влияние отца принцессы, герцога мекленбургского, и даже допустят его водвориться в России, а судя по тому, что случилось с ним в его немецкой земле, можно было справедливо опасаться, что появление его в России не будет полезно для Российского государства.
16 октября с больною, уже не встававшею с постели императрицею сделался припадок, подавший опасение скоронаступающей кончины. Анна Ивановна приказала позвать Остермана и Бирона, и в их присутствии подписала обе бумаги - о наследстве после нее Ивана Антоновича и о регентстве Бирона. Первую бумагу она вручила Остерману, последнюю - отдала своей придворной даме Юшковой, постоянно находившейся при ней во время болезни, приказавши открыть ее после ее смерти. Юшкова спрятала эту бумагу в шкаф с драгоценностями. Императрица, отпуская Остермана, приказала объявить всем сановникам, что теперь все уже окончено.