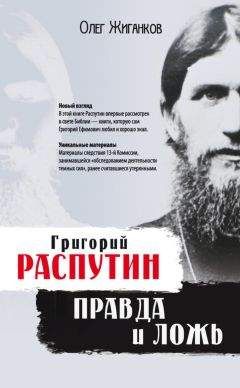С этим государь уехал на фронт. Когда он вернется в Петроград, не будет уже в живых его друга Распутина, а его государство будет содрогаться в смертельной агонии, подобной той, в которой умер старец.
А вот еще одно письмо Ирины, написанное ею через неделю, 9 декабря: «Дорогой Феликс… получил ли ты мой бред?.. Не думай, что я все это выдумала, такое было настроение последние дни… Сегодня утром температура нормальная, но я все-таки лежу. Почему-то ужасно похудела… Прости меня за мое последнее письмо, оно ужасно неприятное… Хотела приберечь все это до твоего приезда, но оказалось, что не могу, надо было вылить душу… С Бэби (их маленькая дочь. — О.Ж.) что-то невероятное. Недавно ночью она не очень хорошо спала и все время повторяла: „Война, няня, война!“ На другой день спрашивают: „Война или мир?“ И Бэби отвечает: „Война!“… Через день говорю: „Скажи — мир“. И она прямо на меня смотрит и отвечает: „Война!“ Это очень странно… Целую тебя и ужасно жду».
Позже Юсупов поймет, что именно убийство Распутина распахнуло для России врата ада. Но он в этом не признается и будет пытаться, кажется, обмануть в первую очередь себя самого, попытаться успокоить совесть.
«Революция пришла не потому, что убили Распутина, — писал он в свое оправдание. — Она пришла гораздо раньше. Она была в самом Распутине, с бессознательным цинизмом предававшем Россию, она была в распутинстве — в этом клубке темных интриг, личных эгоистических расчетов, истерического безумия и тщеславного искания власти. Распутинство обвило престол непроницаемой тканью какой-то серой паутины и отрезало монарха от народа»[290].
Какой цинизм и какая бессмыслица! Уж если и был на Руси человек, соединивший царскую семью с русским народом, с русским крестьянством в первую очередь, то этим человеком и был Распутин.
Маклаков записал характерный для того времени случай. «Одна из светских дам Петербурга сделала любопытное наблюдение: при посещении госпиталя, где было много солдат, она под радостным впечатлением от смерти Распутина, сообщила о нем солдатам; она ждала выражения восторга, солдаты угрюмо молчали. Думая, что они ее не поняли, она стала повторять и разъяснять смысл события; солдаты продолжали молчать и наконец один из них вымолвил: „Да, только один мужик и дошел до царя и того господа убили“»[291]. Напомним, что сам масон Маклаков при этом нисколько не симпатизировал Распутину.
А вот что писал С. Булгаков: «…Я познакомился с князем Юсуповым, который мне рассказывал (очевидно, уже десятки раз) историю этого убийства с его потрясающими подробностями. В его рассказе не было ничего, кроме аристократической брезгливости, не было даже сознания того, что пуля направлена в царскую семью и что с этим началась революция. Это было уже тогда для меня очевидно. Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции, а таковыми были почти все. <…> Это убийство разнуздало революцию, и стали открыто и нагло говорить и даже писать — правда не о цареубийстве — но о дворцовом перевороте»[292].
«Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее».
Евангелие от Марка, 8:35
«Скажите нам, мы убили праведника: он не злословил нас, пойдем — покаемся, солнце померкло, и света уж нет! Поздно!..».
Г. Е. Распутин
В жизни Григория Распутина было много удивительных «совпадений», касавшихся времени, дат. Но еще более удивительные совпадения окружают его смерть. Первое покушение на жизнь Распутина, предпринятое позорным церковным собором, собранным против старца, состоялось 16 декабря 1911 года. Но тогда его время еще не пришло: Бог даровал ему (и вместе с тем всей стране) еще ровно пять лет. Убийству суждено было произойти в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года. Отметим еще одну интересную деталь, о которой забывают обычно исследователи. По-новому, то есть григорианскому календарю, это будет ночь с 29 на 30 декабря. Так что, даже по новому календарю Распутин умер как раз накануне 1917-го года. Вот уж воистину во всех отношениях сбылось пророчество старца о самом себе: что он не переживет 1916 год, не вступит в страшный 1917-й — самый отчаянный и кошмарный год русской истории. Не потому-то он был так спокоен и вместе с тем возбужден, идя в расставленные ему сети.
Варламов пишет: «Двое из убийц — Пуришкевич и Юсупов — оставили свидетельства о том, как убийство Распутина происходило, однако верить обоим трудно. Дневник Пуришкевича меньше всего похож на дневник, мемуары Юсупова — на мемуары. И то и другое литературно обработанная публицистика. Тем не менее что-то из этих источников выудить можно»[293].
Я постараюсь вкратце, основываясь на воспоминаниях очевидцев, восстановить из событий той ночи те, что подлежат восстановлению. Есть вещи, о которых мы не знаем и вряд ли узнаем до Судного дня.
16 декабря Григорий Ефимович находился в состоянии какого-то особенного возбуждения. Последние несколько дней он никуда не выходил из дома и только иногда прогуливался с Муней к Казанскому и Исаакиевскому соборам. Навестила она его и в тот последний день: пришла к полудню, а ушла в десять вечера, за два часа до прихода Феликса Юсупова. Она вспоминала: «Он был возбужден и сказал: „Сегодня я поеду“, — но не сказал куда».
Вечером приезжала Вырубова. Григорий Ефимович рассказал ей о приглашении Юсупова помолиться за его жену ночью. Вырубова стала отговаривать его, говоря, что это унизительно — ездить по ночам к тем, кто боится подать тебе руку днем. Ездить, да еще молиться за них! Впрочем, Вырубова знала, что Григорий Ефимович не переменит своих планов — во-первых, он не боялся унизиться, а во вторых, он никому не отказывал.
В силе и действенности молитвы Григория Ефимовича Вырубова могла убедиться многократно. Свое чудесное исцеление после недавней ужасной железнодорожной катастрофы, в которую Вырубова попала, она связывала с Распутиным. Именно его голос, произнесший слова «будет жить», вывел ее из смертельной комы, в которую она впала в результате полученных множественных увечий.
К одиннадцати вернулись из гостей дочери Григория Ефимовича (старшая, Матрена, и младшая, Варвара), в последний раз поцеловали отца и пошли спать. Около полуночи заехал трусливый министр Протопопов. Его Распутин быстро выставил, так как с минуты на минуту ожидал Феликса.
«Он надел голубую рубашку, вышитую васильками (рукою самой императрицы. — О.Ж.)… но не мог застегнуть ворот, и я ему пуговицы застегнула», — свидетельствовала его верная служанка Катя Печеркина. Она тоже отмечала, что он был необычным образом взволнован.
Племянница Анна, которая пришла вместе с дочерьми Григория Ефимовича, вспоминала: «В начале первого часа ночи дядя лег на кровать, не раздеваясь.
Вскоре после этого „с черного хода“ раздался звонок. Это приехал князь Феликс Юсупов. Он услышал голос Распутина: „Это ты, Маленький?“
Юсупов: „Мы вошли с ним в спальню, освещенную только лампадой, горевшей перед образами. Распутин зажег свечу. Я заметил, что кровать была смята, возможно, он только что отдыхал… Около постели приготовлена была его шуба и бобровая шапка… Распутин был одет в… шелковую рубашку, вышитую васильками, и подпоясан толстым малиновым шнуром с двумя большими кистями. Черные бархатные шаровары и высокие сапоги…
И вдруг охватило меня чувство безграничной жалости к этому человеку. Мне сделалось стыдно и гадко при мысли о том, каким подлым способом, при помощи какого ужасного обмана я его завлекаю к себе. Он — моя жертва, он стоит передо мною, ничего не подозревая, он верит мне. Но куда девалась его прозорливость? Куда исчезло его чутье? Как будто роковым образом затуманилось его сознание, и он не видит того, что против него замышляют. В эту минуту я был полон глубочайшего презрения к себе; я задавал себе вопрос, как мог я решиться на такое кошмарное преступление? И не понимал, как это случилось“[294].
В повествовании Юсупова, этого способного артиста, есть откровенные места, придающие его истории видимость правдоподобности. Но все эти отрывки связаны с его внутренними чувствами и переживаниями, а не с тем, как собственно проходило убийство.
Из этих строк видно, что в эту минуту будущее России висело на волоске и зависело от голоса совести одного человека — князя Феликса Юсупова. И этому голосу совести Юсупов не внял, обрекая себя самого на жалкую будущность и на вечные сомнения и страх. Как бы он ни уверял других в том, что поступил правильно и не виноват в том, что последовало за этим, в глубине души он не мог не знать, что в тот роковой вечер, перешагнув в последний раз знакомый порог дома гостеприимного Распутина, он целовал старца поцелуем Иуды.