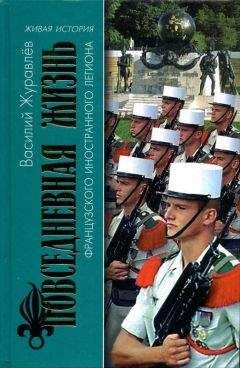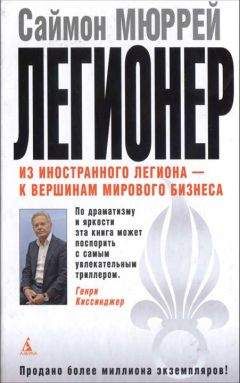Документы
Воспоминания донского казачьего офицера Матина Николая «О службе в Иностранном легионе в Алжире, Тунисе и Сирии».
Эти мемуары были начаты в 1922 г. и закончены в 1927 г. Воспоминания Николая Матина, донского казачьего офицера, в ноябре 1920 г. ушедшего в эмиграцию в составе армии Врангеля и оказавшегося во французской армии, являются очень важным источником для исследования истории россиян во Французском иностранном легионе. Здесь содержатся важные сведения относительно жизни этого подразделения в Северной Африке и Сирии. Этот документ хранится в Государственном архиве Российской Федерации: ГА РФ. Ф.5881. Оп.1. Д.386. Лл.1- 25.
Я — офицер русского войска. Меня знают слишком много офицеров — вплоть до высших, чтобы мои очерки о русских в Иностранном легионе могли возбудить подозрение в правдивости всего того, что каждый русский, быть может, когда-нибудь прочтет. Легион — особый мир. Особое государство. Со своим правовым порядком — отличающимся от всякого другого, со своим бытом — едва ли где-нибудь еще повторимым, со своими подвигами и «преступлениями», о которых мало кто знает. Вот этому особому миру и жизни в нем многих сотен русских и посвящаются мои очерки.
В конце декабря 1920 г. я стал легионером. С середины 1921 г. я — в первом кавалерийском полку Иностранного легиона. С этим полком, с этой своеобразной семьей, я пробыл до марта текущего 1927 года. Шесть лет и два месяца. И в эти две с лишним тысячи дней: карьера до бригадира, бои — после каждого — несколько свежих русских могил, дезертирство, каторжные работы — в свинцовых рудниках, — снова Легион, и наконец, после тяжелого ранения, — освобождение и… сорок четыре франка пенсии. В конце декабря 1920 г. наша партия, в количестве шестидесяти двух, преимущественно, казаков, погрузилась на один из коммерческих французских пароходов в Константинополе, и мы, не задерживаясь, отправились к будущему месту нашего служения в Африку. Не буду описывать нашего душевного состояния, так как, вероятно, каждый испытывал то же, что испытывали мы, когда покидали родные края на долгое время. Одно, что успокаивало нас, это то, что мы едем в Африку, где будем иметь возможность видеть на свободе диких зверей и даже охотиться на них, иначе мы не представляли себе службу в Иностранном легионе. Да и сами французы говорили нам, что наши обязанности будут состоять исключительно из охраны караванов и защиты жителей от диких зверей. Восьмидневное путешествие на пароходе было сравнительно спокойным, за исключением сильной качки, которую пришлось перенести около Порт-Саида. Кормили очень хорошо, но денег не давали, хотя и было обещано выдать нам аванс в счете пятисот франков премии, положенных по контракту. На восьмой день мы приехали в Марсель — главный распределительный пункт. Уже при входе нас во французские воды отношение к нам со стороны французского начальства заметно ухудшилось. В Марселе нас ожидала уже французская военная команда, под конвоем, коим мы были препровождены в знаменитую крепость Сан-Жан. В крепости, в тот же день, произошло первое столкновение с французами: не дав нам отдохнуть, после дороги, нас с места же заставили подметать и белить крепость. По просьбе казаков я, как немного знающий французский язык, пошел к сержанту и больше жестами, чем языком, объяснил ему, что мы устали и хотим отдохнуть, на что он в резкой форме заявил, что мы не должны забывать, что находимся на французской военной службе и неповиновение повлечет за собой строгое наказание. Передал казакам слова сержанта, нами было решено на работу не идти, за что я и еще четыре казака-офицеры немедленно были арестованы и посажены в карцер. Таким образом, французы дали понять, что мы продали себя за пятьсот франков и право какого бы то ни было голоса не имеем. В Марселе нас держали, как арестантов, кормили уже не так, как на пароходе, и абсолютно никого из крепости не выпускали. Таким образом нас держали четыре дня. На пятый день мы погрузились на пароход и поехали в Оран — порт в Северной Африке. В Оране, под сильным жандармским конвоем, погрузились в поезд и отправились в главный штаб и распределительный пункт в городе Сиди-Белабес. Настроение заметно сильно упало у всех, почти всю дорогу молчали, и только изредка делали замечания, что мы подписали контракт, не зная, какой, и что французы своих обещаний не держат. Обещали же очень много, а именно: жалованье, на всем готовом, сто пятьдесят франков, премия пятьсот франков, и по окончании контракта пяти лет получали по пять тыс. франков. Самое же главное — это условие жизни: охота, охрана, легкие занятия и все. Но были обмануты во всем, кроме премии, которую мы получили: двести пятьдесят франков — по приезду и двести пятьдесят франков — через четыре месяца. По приезду в Сиди-Бель-Аббес мы были разбиты по взводам, но в одной роте. Конечно, начались расспросы, как и что, и узнали от казаков, приехавших на две недели раньше нас, что французы нас обманули, жалованье получают только двадцать пять сантимов в день, что «охоты» они дожидаются уже две недели и отношение со стороны французов — очень скверное, в особенности к офицерам. Все-таки не хотелось верить в плохое и мы думали, что это только временно, что впоследствии будет хорошо, но, к сожалению, улучшения жизни пришлось ждать в течение всей службы — но напрасно. На другой день нас повели на медицинский осмотр. После осмотра, в течение всего дня, нам дали отдых. Дальше пошли занятия и всевозможные работы изо дня в день. Такая жизнь продолжалась в течение шести месяцев. Через шесть месяцев французы начали формировать кавалерийский полк, кадрами которого были большинство казаков, в том числе и я. Полк формировался в Тунисе, в городе Сус. Эскадрон, где находился я, был отправлен в небольшой арабский городок Гавсу, расположенный недалеко от Сахары и итальянской границы — Триполитании. Там, при колоссально высокой температуре, мы несли сторожевую службу и, своим чередом, велись занятия. Непривычные к такому жаркому климату, многие заболевали. Служба с каждым днем становилась все тяжелее, и среди нас началось массовое дезертирство. Бежали по два-три человека, бежали, сами не зная, куда, лишь бы уйти. Правда, многим удавалось скрываться по несколько недель, и даже были случаи, что переходили границу, но это было очень редко, в большинстве же случаев их ловили, отдавали под суд, а дальше, в лучшем случае, сидели в тюрьме от шести месяцев с принудительными работами, без зачета срока службы. Мне тоже пришлось побывать на каторжных работах в течение четырнадцати месяцев, хотя был приговорен к трем годам, но благодаря амнистии сидеть весь срок не пришлось. Об этом я напишу после более подробно, так как само дезертирство имело иной характер и процедура французского военного суда очень интересна, что займет много времени. Помню, был такой случай: я был в карауле, расположенном на границе Сахары. Пост от поста находился на расстоянии семи километров. Регулярно от каждого поста высылалось по одному человеку, друг другу навстречу. Таким образом, приходилось проходить по 3 с половиной километра каждому до места встречи. Была моя очередь. Взяв карабин, я отправился. Пройдя около километра, я увидел, что через мой путь движется какое-то чудовище. Первая моя мысль была, что это — крокодил. Откровенно говоря, я струсил, и даже основательно. Пройдя еще несколько шагов, я убедился, что зверь меня не боится и даже, наоборот, остановился, как бы разглядывая меня. Не раздумывая долго, я повернул назад, на свой пост, и заявил начальнику поста, что не могу идти, так как на дороге — крокодил. Сейчас же весь пост во главе с начальником поста пошел к тому месту и нашел там зверя. Бригадир Штиллинг (начальник поста) подошел к зверю, очень долго его рассматривал, на что зверь не протестовал, так как, благодаря глубокому песку, он с трудом мог двигаться, потом снял байонет и приколол «крокодила». Оказалось, что это самая простая сахарская ящерица, длиной в 1 метр 60 сантиметров, и к тому же очень съедобная. Несмотря на то что я тоже принимал участие в трапезе этой ящерицы, мне все-таки пришлось отсидеть в «призоне» 15 дней за самовольное возвращение на пост. Наказание было слишком суровое, и вот тогда-то у меня зародилась мысль бежать, но бежать не как другие, а более основательно и наверняка, даже если бы и пришлось поставить на карту жизнь. Недостаток воды и пищи — явление в Легионе обыкновенное, но в моей голове не вмещалось, как так французы, культурные люди, могут так нагло обманывать, тем более нас, русских, все-таки много сделавших для Франции. Слово «легионер» — это на местном переводе — бандит. Не так давно, всего за два-три года до приезда в Легион русских,[406] взгляд на легионера был таков: после занятий трубач выходил и особым сигналом извещал жителей, что легионеры «идут гулять»; все магазины закрывались. По приезде же русских отношение жителей резко изменилось к лучшему, и даже многие из нас сидели, бывало, в частных семейных домах. Не знаю, с какой целью, но французы всячески старались воспрепятствовать нашему сближению с жителями. Были случаи, когда французский офицер, завидя кого-либо из легионеров, гуляющего с цивильными,[407] начинал на него кричать на всю улицу, придираясь к чему-либо, и нередко приказывал вернуться в казарму. Результат возвращения — призон. Несколько слов хочу сказать о французском военном призоне: сажают в одиночную камеру размером 1,2 х 2,6 метра. В камере стоит бетонная кровать без всего. Это — вся обстановка. На ночь выдается половина простого солдатского материала. Утром получает кару[408] темной жидкости кофе с сахаром. После кофе выстраивают всех арестованных и гонят на работы. Правда, работы попадаются иногда легкие, но при семидесятиградусной температуре вынести очень трудно. Работы продолжаются до обеда. Обед, если его можно так назвать, состоит из бульона, куска мяса и какого-нибудь легюма.[409] В это мешается вместе и прибавляется на три четверти литра всего содержимого три-четыре столовые ложки соли. Таким образом вся эта бурда становится несъедобной, приходится выливать весь бульон, затем промывать холодной водой (которая дается раз в день) и есть остаток. После «сытного обеда» опять выстраивают на так называемую «гимнастику». Дают вещевой мешок, который наполняется камнями и надевается на плечи, и вот с этим мешком приходится сначала маршировать, потом бегать, потом опять маршировать. Команда «Стой!» и сразу же — «Ложись!», следом — «Вставай!», и без перерыва раз двадцать-сорок (зависит от дежурного маршалля), большинство изнемогает и уже после четвертого-пятого раза не может подняться. Тяжесть камней — около тридцати пяти кило. Безусловно, от такой «полезной гимнастики» спины почти у всех разбиты до крови. Такая гимнастика продолжается около полутора — двух часов, а после — опять работа, до ужина, по качеству такого же, как обед. Мне самому приходилось несколько раз сидеть в призоне, и все это испытал на себе. Мне бы очень хотелось, чтобы эти строки когда-нибудь попались на глаза какому-нибудь культурному французу. Все это, виденное и испытанное нами, озлобило нас, и вот собралась кампания, в числе 27, и мы решили не бежать, а с оружием в руках и на конях пробираться через цепи гумов (арабы, французская полевая жандармерия), захватить баркас, хотя бы даже с боем, и пробраться в Триполитанию.[410] План был выработан, патроны достали, и день выступления был назначен на 22 августа 1922 г. Сколько волнений и хлопот пришлось пережить за это время в ожидании 22 августа! Но вот наконец настал и этот день. В 5 ч. 30 м. утра эскадрон выступил на занятие. Компания наша была подобрана, так что мы были все вместе. Я, как исполняющий должность урядника, повел взвод на занятия. Взвод состоял из сорока двух всадников, таким образом, мне предстояло, возможно, правда, освободиться от тех пятнадцати человек, которые не были посвящены в тайну заговора. Отделив этих пятнадцать, я приказал им идти в ближайшую арабскую деревню, расположенную в трех километрах от нашего плацдарма, и ждать меня там, а я с остатками якобы поеду на ближайшую жандармскую станцию для принятия от них восьми дезертировавших легионеров. Предлог был довольно глуп, но в этот момент от волнения я не мог придумать ничего более умелого. Я ставил на карту свою, а также и остальных двадцати шести, — жизнь. Лишь только эти пятнадцать скрылись с глаз, я приказал зарядить карабины и два вьючных пулемета. Приказание было исполнено, мы сняли шапки, перекрестились и двинулись в путь. Первую и вторую цепи гумов мы прошли благополучно. Но, когда мы стали подходить к третьей цепи, несколько гумов отделились и вышли нам навстречу. Узнав от меня, что мы делаем маневры, они не поверили, так как, во-первых: такие маневры к границе никогда не бывали; 2} им об этом ничего не известно, а в случае маневров всегда сообщают жандармам, то они категорически потребовали, чтобы мы повернули назад. Видя, что мы очень долго разговариваем, другие гумы стали подходить к нам; положение было самое критическое, и медлить было нельзя. Тогда я по-русски скомандовал: «Рысью, марш!» — и моя группа, смяв гумов, тронулась. Видя такую картину, гумы из револьверов дали несколько выстрелов, не причинив, однако, нам никакого вреда. Остальные гумы, услышав стрельбу, открыли по нас тоже стрельбу, но было уже поздно, т. к. мы успели ворваться в их цепь и открыли по ним убийственный огонь, результатом чего было 10 убитых и несколько раненых[411] им об этом ничего не известно, а в случае маневров всегда сообщают жандармам, то они категорически потребовали, чтобы мы повернули назад. Видя, что мы очень долго разговариваем, другие гумы стали подходить к нам; положение было самое критическое, и медлить было нельзя. Тогда я по-русски скомандовал: «Рысью, марш!» — и моя группа, смяв гумов, тронулась. Видя такую картину, гумы из револьверов дали несколько выстрелов, не причинив, однако, нам никакого вреда. Остальные гумы, услышав стрельбу, открыли по нас тоже стрельбу, но было уже поздно, т. к. мы успели ворваться в их цепь и открыли по ним убийственный огонь, результатом чего было 10 убитых и несколько раненых.[412] Гумы в панике бежали, мы совершенно беспрепятственно дошли до берега, обезоружили еще двух гумов, охранявших военный сторожевой баркас, оставили лошадей, погрузились и отчалили. Не зная верного расположения этого проклятого залива, мы взяли прямое направление на Триполи. Около 30 километров мы плыли благополучно, и уже была видна на той стороне сторожевая будка, как почувствовали, что баркас на что-то наткнулся, прошел еще несколько метров и остановился. Мы сели на мель. Несмотря на пятичасовое наше общее усилие, мы ничего сделать не могли, т. к. мель тянулась почти на три километра, а до берега было километров восемь-десять. За это время была организована погоня за нами. Зная, что мы будем бежать прямым путем и должны будем обязательно сесть на мель, французская рота, вызванная из Меднина,[413] догнала нас, и мы, после некоторых переговоров, сдались, так как французский офицер заявил, что если мы не сдадимся, он прикажет нас уничтожить, и обещал никого не бить, а доставить нас прямо в штаб эскадрона. А оттуда — в штаб полка в г. Сус. Весь эскадрон нас встречал, и были слышны одобрительные возгласы, а некоторые ругались — «почему мы им ничего об этом не сказали». Ввиду того, что мест в призоне для всех не оказалось, нас отправили в местную тюрьму, где режим был значительно лучше. В тюрьме мы пробыли десять дней, и на одиннадцатый день нас погнали в штаб полка. В течение почти месяца длилось следствие, и наконец нам объявили, что следствие закончено и мы отданы под военный суд. Положение сразу улучшилось: нам выдали матрацы, одеяла и даже подушки. Разрешили курить, вообще перешли на привилегированное положение. Мы были совершенно освобождены от работ. Начались томительные дни в ожидании суда. Так продолжалось до четырнадцатого декабря 1922 г. Наконец четырнадцатого нам сообщили, что завтра нас отправят в Тунис на суд. Целую ночь я провел в раздумье и думал, чем все это кончится. Скажу откровенно, что если бы в тот момент у меня была бы хоть малейшая возможность, я кончил бы жизнь самоубийством. Под рукой не было абсолютно ничего. Пятнадцатого вечером нас погрузили на поезд под взорами любопытной толпы, часовые прохаживались вдоль всего состава. Только за две-три минуты до отхода поезда наш вагон прицепили к составу. Наконец поезд тронулся. Где-то на перроне закричали: «Ура!» — и вдруг запели нашу донскую песню «Черный ворон». Это казаки провожали нас, и никто из них и нас не был уверен, что мы когда-нибудь вернемся. Некоторые из нас хотели посмотреть, быть может, последний раз в окно, но кандалы не дали возможности это сделать. Многие из нас плакали! В Тунисе нас разместили в военной тюрьме. Режим оказался не особенно строгим, и нам даже дали возможность работать — шили мешки. За это два раза в неделю мы могли на заработанные деньги покупать себе хлеба и табаку. Но больше, как на один франк, записаться было нельзя; остальные же деньги пропадали.