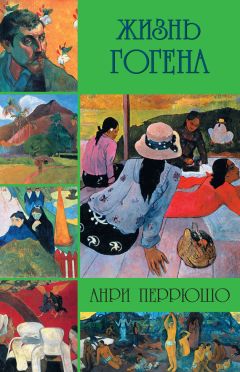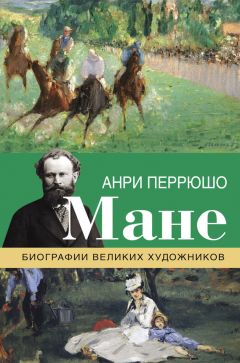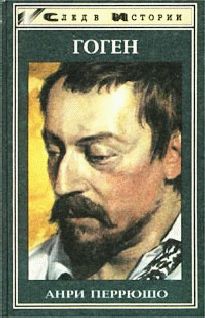При содействии лейтенанта Жено он снял хижину возле собора, на краю города, в квартале, прилепившемся к горе. Он часто виделся с Жено, который давал ему уроки таитянского языка и которого он пытался писать и лепить. Но память у Гогена была плохая, язык давался ему с трудом. У него не было той редкой способности к языкам, какой отличался Ван Гог, и он не усваивал их на лету, как Метте.
"Я часто думаю, будь Метте здесь, она вскоре заговорила бы по-таитянски". Не удовлетворяла его и творческая работа. Несомненно, Гоген был не из тех, кто легко и быстро приспосабливается к новой обстановке. В общем - к чему скрывать? Остров Таити его разочаровал.
Недоразумение, на основе которого вначале сложились отношения Гогена с белыми, быстро рассеялось. В среде поселенцев, чиновников, коммерсантов, которая отличалась - это подтверждали все, кому случалось побывать на Таити, - удручающей посредственностью, "усугубленной колониальным снобизмом, которому присуща детская, гротескная, почти карикатурная подражательность", он вновь обрел ту Европу, от которой он надеялся "освободиться". Он надеялся убежать от "царства золота", а в Папеэте он нашел то же поклонение золотому тельцу. Ценность человека определялась здесь его богатством. Вдобавок жизнь в Папеэте была очень дорога, и тем более дорога для Гогена, что, вопреки его надеждам, он не мог питаться добычей охоты: если не считать крыс и нескольких бродящих на свободе свиней, на острове не было никакой дичи. Винчестер и запас патронов, которые он привез на Таити, оказались здесь совершенно бесполезными. Само собой, не было больше и речи о писании портретов. Пусть не рассчитывают, что Гоген станет "малевать картинки", передающие поверхностное сходство. И по Папеэте пополз слушок: похоже, что этот Гоген "маа-маа" - не в своем уме.
Оставались туземцы, которых Гоген, конечно, противопоставлял белым. К ним он относился с доверием. Пытался их понять, увидеть их глазами своей мечты. "Все эти люди, - писал он Метте, - бродят повсюду, не разбирая дороги, заходят в любую деревню, спят в первом попавшемся доме, едят и т. д. и даже не говорят спасибо - но долг платежом красен. И это их называют дикарями? Они поют, никогда не воруют - я никогда не запираю дверей, - не убивают. Их характеризуют два таитянских слова: "иа орана" (здравствуй, до свиданья, спасибо и пр.) и "онату" * (плевать, не все ли равно и пр.), и это их называют дикарями?"
Но и туземцы не оправдали ожиданий Гогена. Маорийцы Папеэте все более или менее напоминали женщину по имени Тити, которая изредка навещала Гогена в его хижине. Дочь англичанина, наполовину белая, она "забыла свое племя". Маорийцы деградировали. Но они ли в этом виноваты? - рассуждал Гоген. Миссионеры убили поэзию этого племени. Они вырвали маорийцев из мрака прошлого **, истребили древние верования, снесли их храмы - "мараэ" и обучили их "протестантскому ханжеству". Вот они блага цивилизации, "не считая сифилиса".
* Собственно "ноа ату" (произносится "ноа ту").
** Таитянское слово "по" означает и мрак и далекие времена, глубину веков.
Смерть Поммарэ V Гоген считал "несчастьем" - несчастьем и для себя лично. Теперь окончательно одержит победу цивилизация ("солдатская, коммерческая и чиновничья", - характеризовал ее Гоген). А маорийская традиция навеки исчезнет *. "Проделать такой далекий путь, чтобы найти здесь то самое, от чего я бежал". Нет, не ради этого европеизированного, развращенного Таити приехал он в Океанию, а ради Таити своих грез райского, первобытного острова.
* Пьер Лоти в "Женитьбе Лоти", опубликованной в 1880 году, утверждал, что уже с воцарением Поммарэ V пришел конец Таити "в смысле костюмов, местного колорита, очарования, необычности". Еще в середине века де Бови в своей работе "Состояние таитянского общества" писал о маорийцах: "В том, что от них осталось сегодня, почти не сохранилось следов того, чем они были прежде".
Эта очарованная земля давно исчезла. Но она когда-то существовала должно же было что-то уцелеть от нее. Не могла она сгинуть бесследно, твердил себе Гоген, не могло племя маорийцев "нигде ни в чем не сохранить своего былого величия". Он решил больше не задерживаться в Папеэте. Он пустится на поиски Таити прежних времен. Он отправится в глубь веков. Он погрузится в тайны таитянской ночи.
"Ночная тишина на Таити - самая диковинная из всех здешних диковинок. Такая тишина, которую не нарушает даже птичий крик, существует только здесь. То там, то здесь упадет вдруг большой сухой лист - но он не производит шума. Скорее кажется, будто это прошелестел дух. Туземцы часто бродят по ночам, но босиком и молча. И в той же тишине. Я понимаю, почему эти люди могут часами, днями сидеть, не произнося ни слова, и меланхолично созерцать небо. Я чувствую, как это накатывает на меня, и в такие минуты испытываю необыкновенный покой. Мне начинает казаться, что нет больше суетной европейской жизни и что так будет завтра, и всегда, и во веки веков...".
*
В сорока пяти километрах от Папеэте, на южном берегу острова, в районе Матайеа, Гоген снял хижину у туземца *.
* Возможно, что прежде чем поселиться здесь, Гоген прожил некоторое время в Паэа, деревушке примерно па полпути между Папеэте и Матайеа. Но на этот счет мы не располагаем никакими точными сведениями.
В этом районе острова прибрежная полоса была шире, чем в других местах. Склон горы начинался в ста пятидесяти метрах от берега. И от ее подножия до самой воды, где - тесно сбившись, где - поодаль друг от друга, под деревьями, стояли хижины. Рядом с домиком Гогена находилось еще три - в одном из них жил его хозяин, Анани. Множество других хижин проглядывали там и сям среди зелени на фоне красной земли, крытые листьями пандануса и почти неотличимые друг от друга. Из домика Гогена видна была гора, покрытая буйной растительностью, которая становилась почти непроходимой по мере приближения к базальтовым кручам, с которых низвергались ручьи. Хлебное дерево, железное дерево, кокосовые пальмы, "бурао", древесина которого идет на постройку хижин, теснились здесь, вперемежку с лианами и древовидными папоротниками выбегая из густой чащи на склоны горы, которая в этом месте образовала глубокую расселину, поросшую манговыми деревьями с оранжевыми плодами.
Узкая зеленая равнина полого спускалась к лагуне, которую коралловый риф, окружающий остров Таити, защищал от морских бурь. Спутанные ветки пандануса, стройные серые стволы кокосовых пальм отражались в спокойной, прозрачной воде, которая в зависимости от глубины, времени дня и освещения окрашивалась в синие, зеленые, розовые или лиловые тона. Плещущиеся о коралловые рифы волны Тихого океана вдали казались зелеными. Теплый, легкий воздух был пронизан сладким, одуряющим ароматом островной гардении королевы таитянских цветов. В лагуне маорийцы в синих и белых набедренных повязках управляли своими пирогами, иногда с помощью весел, иногда просто направляя их движением своего тела. Справа, на горизонте, вырисовывался скалистый, резной массив острова Моореа...
"Мне немного одиноко", - писал Гоген Метте.
Уехав из Папеэте, чтобы "оканачиться", как это с презрением называли европейцы, Гоген не взял с собой Тити, считая, что слишком европеизированная женщина помешает ему открыть подлинную душу Таити. Теперь он порой часто сожалел об этом, чувствуя себя "немного одиноко", "очень одиноко" среди туземцев Матаиеа. В деревушке никто не говорил по-французски, а Гоген пока еще знал по-таитянски только самые элементарные слова.
Впрочем, "оканачиться" оказалось совсем не так легко, как он предполагал. Издали кажется, что в жизни доброго дикаря нет никаких трудностей. Но, увы, повязать набедренную повязку еще недостаточно для того, чтобы в мгновение ока стать "естественным" человеком. Таитянская земля плодородна и щедра, но не каждому дано пользоваться ее щедротами. Плоды принадлежат всем, но чтобы их сорвать, надо взобраться на дерево, а "майоре" (безвкусный плод хлебного дерева, основа местного питания) быстро приедается. Лагуна кишит рыбой и раковинами, но надо уметь нырять, чтобы оторвать раковины от скалы, уметь удить рыбу и, кстати, отличать съедобную от ядовитой.
Гоген снова взялся за кисти и карандаши. Не без труда. "В новом месте мне всегда нелегко пустить машину в ход". И в самом деле, ему не хватало главного - понимания маорийцев, которые наблюдали за ним, более или менее сторонясь его, и отношения с которыми у Гогена налаживались очень медленно. Смущал его и залитый светом пейзаж с его резкими, кричащими красками. Они "ослепляли" Гогена, он не решался перенести их в их подлинном виде на полотно.
Как-то раз одна из соседок отважилась зайти в хижину к Гогену, чтобы посмотреть на картины, приколотые к стенам, - это были репродукции с картин Мане, итальянских примитивистов и японских художников, которые Гоген повесил рядом с фотографиями Метте и детей. Он воспользовался этим визитом, чтобы сделать набросок портрета таитянки. Но она поморщилась, сказала "айта!" (нет!) и исчезла, однако вскоре возвратилась - она уходила, чтобы переодеться в нарядное платье и воткнуть в волосы цветок. Женщина согласилась позировать художнику. Наконец-то Гогену представился случай изучить маорийское лицо. Он писал таитянку с такой страстью, что сам признавался: писание такого портрета * для него было равнозначно "физическому обладанию". "Я вложил в этот портрет все, что мое сердце позволило увидеть глазам, и в особенности, наверное, то, чего одним глазам не увидеть". Отныне Гогену будет легче работать. Написав этот портрет, он почувствовал себя маорийцем.