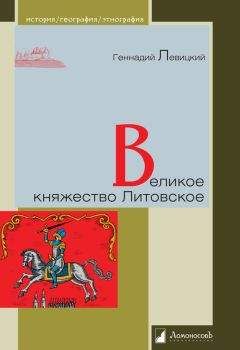Русские, поняв, что пруссаки их переиграли, отказались от своей дипломатической игры; это ясно из письма Потемкина к Екатерине (ноябрь 1789 года): «О Польше. Хорошо, если бы ее не делили, но когда уже разделена, то лучше, чтобы вовсе она была уничтожена, со всеми уже сближенная. В таком случае зла будет меньше, ежели между нами не будет посредства…» Это был отказ от политики использования ослабленной Польши в качестве буфера между сильнейшими европейскими державами. Таким образом, Россия пошла на поводу у Пруссии и стала заботиться лишь о величине последующих территориальных приобретений. При этом она желала сохранить свое лицо в неблаговидном деле. 20 декабря 1790 года Екатерина писала Потемкину: «По польским делам поступать надлежит с крайнею осторожностию, дабы не от нас был первый выстрел».
3 мая 1791 года сеймом была принята конституция. Она отменила принесшее столько бед Польше liberum veto и запретила конфедерации. Конституция регламентировала избрание короля. «Польский трон хотим иметь и объявляем навечно выборным для (определенной) семьи». То есть избирался уже не единичный монарх, а целая династия сразу. Прогрессивность этого события можно оценить, вспомнив, что шляхта выманивала у каждого претендента на престол мыслимые и немыслимые льготы – до тех пор, пока у нее вообще не осталось обязанностей.
В остальном конституция не стремилась ломать веками сложившееся положение дел. Римская католическая церковь была объявлена господствующей в Польше – как и было на самом деле. Но и другие религии не остались без внимания и защиты: «Но так как та же святая вера повелевает нам любить ближних наших, мы должны обеспечить государственную опеку и спокойствие в вере для всех людей любых вероисповеданий. Поэтому мы гарантируем свободу религии и обрядов в польских государствах в соответствии с местными уставами».
У шляхты отобрали только разрушающие государственность законы, в остальном авторы конституции поспешили успокоить мятежное сословие: «Чтя память предков наших, как основателей свободного правления, мы торжественно гарантируем шляхетскому стану все свободы, вольности, прерогативы и преимущества в частной и общественной жизни…» Такая конституция не могла понравиться соседям. Как заметил С. М. Соловьев, «по господствующему правилу тогдашней политики каждая держава должна была стараться о том, чтобы в соседней державе сохранялась такая форма правления, которая бы давала как можно менее силы ее правительству и, таким образом, делала ее безопасною для соседей».
Екатерина II в польской конституции сразу почувствовала угрозу потери этой страны для России. В датированному июнем 1791 года письме к дипломату Якову Булгакову императрица рисует следующую картину последствий: «Происшествие… преобразило Польшу, так сказать, в мгновенье ока из пассивной державы в активную, и из анархии в деятельное состояние». Екатерина II, впрочем, не спешила приступать к активным действиям. «Мы как прежде, так и теперь останемся спокойными зрителями до тех пор, пока сами поляки не потребуют от нас помощи для восстановления прежних законов республики», – писала Екатерина Булгакову, находившемуся в охваченной ликованием Варшаве.
Дальновидная российская императрица рассчитывала на пятую колонну. И в самом деле, не всем гордым шляхтичам понравилось, что у них отняли права. Но крики несогласных потонули в общем гуле одобрения. Тогда депутат Мелжынский решается на отчаянный шаг; он падает наземь перед дверями, чтобы загородить своим телом выход, но понапрасну: шагают через него, топчут ногами. Позже почти пятьдесят депутатов из числа несогласных подали протест против принятия конституции, но суд его не принял. Но ждать сатисфакции им оставалось недолго.
После заключения Россией мира с Турцией в конце 1791 года польская оппозиция пришла в движение. Все понимали, что теперь у Петербурга развязаны руки и не замедлят последовать действия в отношении Польши. За помощью к России обратились виднейшие польские вельможи: генерал артиллерии Феликс Потоцкий, гетман польный Ржевусский, коронный гетман Браницкий. Оппозицию мучила ностальгия по праву вето и конфедераций.
«Все приближалось к великому перелому, и прозорливый наблюдатель сквозь обманчивую тишину предвидел страшные бури, – описывает ситуацию путешествовавший по Европе русский офицер Ф. Н. Глинка. – Пожары домашних раздоров пылали внутри Польши, темные тучи ходили в небесах ее: война со всеми гибельными перунами грозно наступала извне. Екатерина Великая наводила гром свой на чело буйной Варшавы; великий Суворов извлекал меч».
Чего боялись, то и случилось. 14 мая 1792 года в украинском городе Тарговице было объявлено о рождении конфедерации, направленной против конституции 3 мая. Генеральным маршалом Тарговицкой конфедерации был провозглашен Феликс Потоцкий, его советниками – Браницкий и Ржевусский.
16 мая русские войска вошли на территорию Польши: для защиты конфедератов и восстановления законов, отмененных конституцией. 100‐тысячной русской армии, двигавшейся в Варшаву по трем направлениям, не могли противостоять плохо вооруженные, немногочисленные войска Речи Посполитой. 31 мая пала столица Великого княжества Литовского – Вильно, 23 июля 1792 года король Станислав-Август, отчаявшись, объявил о своем присоединении к Тарговицкой конфедерации.
Прусский король, несмотря на данные обещания, не оказал Польше ни военной, ни даже дипломатической помощи. Но, как всегда, Берлин использовал поворот в польских делах и ухватил часть польского пирога. 16 января 1793 года прусские войска вступили на территорию Великой Польши. Пруссия получила города Данциг, Торунь, территорию почти всей Великой Польши, часть Мазовецкого и Краковского воеводств. Всего к Пруссии отошло 58 000 квадратных километров с населением 1,2 миллиона человек. 24 февраля прусский король оккупировал Данциг.
Россия же поглотила остатки Великого княжества Литовского. К ней отошли части Украины и Белоруссии – около 250 000 квадратных километров с населением около 3 миллионов человек. Австрия на этот раз не участвовала в дележе; вместо польской территории союзники пообещали ей Баварию.
9 апреля 1793 года было официально объявлено о втором разделе Речи Посполитой. Ратифицировать этот колоссальный грабеж должен был сейм, который состоялся в Гродно. Но даже давний друг Екатерины – польский король Станислав-Август – открыто воспротивился. Король, как пишет С. М. Соловьев, «в речи своей 20 июня объявил сейму, что он приступил к Тарговицкой конфедерации под условием неприкосновенности польских владений, что он никоим образом не будет содействовать уступке польских провинций в надежде, что и сейм будет поступать точно так же».
Основная дипломатическая нагрузка в таких непростых условиях легла на русского посла Якова Ефимовича Сиверса, который до этой миссии девять лет (с 1784 года) благополучно пребывал в отставке в своем имении в Лифляндии. И он блестяще справился с, казалось бы, невыполнимой задачей. Просьбами, обещаниями и, наконец, угрозой войны Сиверс добился того, что сейм 11 июля 1793 года подписал договор с Россией. Сложнее было с Пруссией, которая накануне, чтобы вырвать Польшу из сферы российского влияния, пообещала полякам военную помощь и защиту, а сама в удобный момент – раньше России – захватила ее земли. Ненависть поляков к Пруссии настолько была велика, что не подействовала даже угроза наступления войск генерала Меллендорфа. На помощь прусскому послу Бухгольцу пришел дипломат Екатерины II. Любопытно события описывает С. М. Соловьев:
«Сиверс ввел русских солдат в замок, где происходило заседание сейма; комиссия была уполномочена подписать договор об уступке требуемых Пруссиею земель, но с условиями: например, чтоб архиепископ-примас жил в Польше, но пользовался доходами от имений, отходящих к Пруссии; что договор об уступке земель не прежде будет подтвержден, как по заключении торгового договора между Польшею и Пруссиею. Бухгольц потребовал безусловного подписания договора. Это повело к сильному волнению на сейме. Некоторые депутаты позволили себе резкие выходки против обоих дворов и их представителей. Сиверс велел схватить четверых депутатов и выпроводить из Гродна. Тут‐то 23 сентября последовало знаменитое немое заседание, когда депутаты думали, что могут отмолчать свои земли. Сиверс велел объявить, что он не выпустит депутатов из залы, пока не заговорят, не выпустит и короля. Пробила полночь – молчание; пробило три часа утра – молчание. Наконец раздался голос Анквича, депутата краковского. “Молчание есть знак согласия”, – сказал он. Сеймовый маршал Белинский обрадовался и три раза повторил вопрос: уполномочивает ли сейм комиссию на безусловное подписание договора с Пруссиею? Глубокое молчание. Тогда Белинский объявил, что решение состоялось единогласное. 25 сентября договор был подписан. С Россиею заключен был договор, по которому обе державы взаимно ручались за неприкосновенность своих владений, обязывались подавать друг другу помощь в случае нападения на одну из них, причем главное начальство над войском принадлежало той державе, которая выставит большее число войска; Россия могла во всех нужных случаях вводить свои войска в Польшу; без ведома России Польша не могла заключать союза ни с какою другою державою… Так произошел второй раздел Польши, доказавший прежде всего, что в Польше не было народа; народ молчал, когда шляхетские депутаты волновались в Гродне вследствие требований России и Пруссии. Сказались следствия того, что в продолжение веков народ молчал и шумел только один шляхетский сейм, на нем только раздавались красивые речи. Но такое явление не могло быть продолжительно, и сейм принужден был онеметь, потому что все вокруг было немо. Быть может, некоторые будут поражены этим немым заседанием сейма; быть может, в некоторых возбудится сильное сочувствие к онемевшим депутатам; но разве их не сильнее поражает еще более страшное онемение, онемение целого народа; разве они не видят в онемении депутатов последнего сейма только необходимое следствие онемения целого народа?»