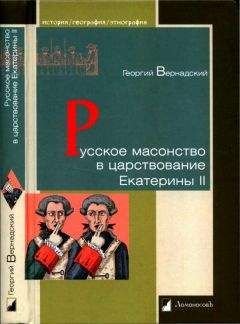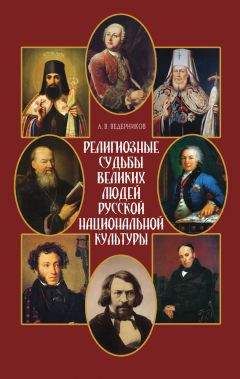«Мы хвалим оказанную вами при гонениях на вас скромность и порядочную осторожность, — писал Вёльнер в Москву, вероятно, в 1786 году. — А как мы ни малейшего сомнения не полагаем на ваши уведомления, то и должны вас уверить, что сие уведомление погрузило сердца наши в пучину страдания и в мучительное попечение».
Вёльнер советовал московским братьям держать не явные ложи, а тайные и немногочисленные. Действительно, в 1786 году, судя по показанию Новикова, явные ложи были закрыты. Вёльнер дополнял свой совет следующим замечанием: «А наипаче ныне сие рачительно исполнять должно, когда час настоит, в который князь тьмы чрез неисчислимое множество сект господствует во всех местах и уже большую часть лож в страшное привел заблуждение и стремится совершенно уничтожить великую цель всего каменщичества. Ко исполнению оного находит он везде орудия, которые внутренно суть толико же злобны и черны, как он. При реченном гонении на вас употребил он в орудие некоего П. и других всеми мирозапутанных гонителей истины» (курсив мой. — Г. В.).
Буквой П., вероятно, отмечен был Потемкин, в России — презиравший цесаревича и им ненавидимый, в Пруссии — своим австрийским союзом спутавший всю дипломатическую игру.
Из прусской масонской среды ненавистников кн. Потемкина вышел в 1794 году известный «Pansalvin», памфлет, направленный против князя Потемкина (мимоходом задевающий и Екатерину). Книгу написали лейцигский литератор д-р Альбрехт, масон и, вероятно, розенкрейцер. Памфлет был переведен и на русский язык («Пансалвин, князь тьмы», М., 1809 год — без имени переводчика). Переводчиком явился В. А.Левшин — ученик по ордену и близкий друг Новикова, трудолюбивый работник Типографической Компании. Конечно, не случай или личная ненависть заставили его — много спустя после смерти Потемкина — бросить камень на потревоженную еще Павлом I могилу. Левшин был лишь выразителем чувств, общих всему новиковскому кружку; ненависть членов кружка к Потемкину была не личная, а партийная — ненависть гонимых к своему преследователю[288].
В предупреждении против Потемкина Вёльнер писал: «Ах! только бы он между вас, сердцем любимые братья, под покровом агнчим не вкрался, и чтобы он, преисполнен злочестия, не притворился так, что вы его не приметите, дабы при первом случае вас уязвить, от истины ложными представлениями отвести и тако предать душеубийце».
Потемкин действительно некоторыми своими действиями давал повод говорить о своем «покрове агнчем». В 1787 году он завел у себя в армии (при начале второй турецкой войны) походную типографию под ведением Луки Сечкарева[289]; в этой типографии напечатано несколько книг духовно-нравственного содержания, близко подходивших к новиковским изданиям. Так, в 1790 году в Яссах появились посвященные Потемкину «Исследования христианства» И.Арндта. В 1791 году в Кременчуге, в Екатеринославской губернской типографии был напечатан сочиненный Потемкиным «Канон вопиющия во грехах души, ко Спасителю Господу Иисусу»[290].
Не видно, однако, чтобы московские розенкрейцеры стремились использовать в своих целях настроение Потемкина. Вероятно, они твердо запомнили предостережения Вёльнера о «покрове агнчем». Без всяких комментариев, кратко и сухо, сообщил кн. Трубецкой Кутузову в письме 27 октября 1791 года о кончине Потемкина, «которая великую сенсацию над всеми сделала». Так же коротко откликнулся на это известие Кутузов. «Я думаю, теперь много у нас нового в отечестве, по причине смерти Потемкина», — загадочно писал он Лопухину 30 декабря 1791 года.
В кипящем котле международных осложнений, в тревожное время второй турецкой войны и польского четырехлетнего сейма протекло последнее пятилетие новиковского кружка. Московские розенкрейцеры с их мечтами о «внутренней жизни» попали в бурный водоворот внешней политики.
Их орденские начальники в Берлине и царственный их друг (если не брат) в Гатчине — цесаревич — все захвачены были этим водоворотом. Один из орденских начальников, Бишофсвердер, играл виднейшую роль в прусской внешней политике конца 1780-х — начала 1790-х годов. В феврале 1791 года он ездил с тайной миссией в Вену; в 1790–1792 годах он вел важные дипломатические переговоры (между прочим, о польских делах) с русским представителем М. М. Алопеусом. Другой видный розенкрейцер, автор «Пастырского послания» гр. Х.А. Гаугвиц, принял особенно деятельное участие в дипломатических делах с 1792 года. В этом году, именно вследствие своих розенкрейцерских связей с королем, он был назначен прусским представителем в Вену, где выделился своей «решительной манерой», которой он «побеждал все препятствия».
Непримиримым врагом берлинских дипломатов был кн. Потемкин, носившийся с своими особыми планами о соглашении России и Польши; эти планы, в случае проведения их в жизнь, могли свести на нет все усилия министров Фридриха-Вильгельма.
Приятелем берлинского двора был зато цесаревич Павел Петрович, который все время поддерживал связь с прусским представителем в Петербурге гр. Келлером. С русским послом в Берлине гр. В. Нессельроде Павел в 1788 году сносился через прусских курьеров. При берлинском дворе рассчитывали в этом году на смерть Екатерины и воцарение Павла. Тогда же приближенный Павлу адмирал Плещеев завязал отношения с авиньонским братством Нового Израиля, во главе которого стоял польский граф Грабянка.
В 1789 году цесаревич находился в постоянных переговорах с агентом прусского посла в Петербурге Гольца — Гюттлем, отчасти при посредстве Алопеуса. Через Гюттля цесаревич вел тайную переписку с Фридрихом-Вильгельмом.
В 1789 году русским дипломатическим агентом в Берлине сделался М. М. Алопеус, масон, интимный собеседник Бишофсвердера и доверенное лицо Павла Петровича. Алопеус все время вел двойную игру и — представитель правительства Екатерины — тайным образом работал на пользу Павла и «прусской ориентации».
В связи с напряженностью своей тайной дипломатической игры цесаревич стал подозрителен и нервен. Уже во время второй поездки Баженова к нему в 1787 году особа «с некоторым неудовольствием» говорила Баженову про пославших его, «что, может быть, ты не знаешь ничего худого за ними, а которые старее тебя, те знают и тебя самого обманывают». Когда зимою 1791–1792 годов Баженов был у цесаревича в третий раз с посылкой от московских розенкрейцеров, Павел принял его «с превеликим гневом»; вероятно, он боялся неловкости слишком усердных его приверженцев, тогда как все для него висело на волоске.
Между тем московские розенкрейцеры одновременно поддерживали сношения и с берлинским агентом Павла — Алопеусом. У него бывал Багрянский в бытность свою за границей; с ним и с его сыном видался в Берлине и Кутузов. Через «молодого Алопеуса» посылал Алексей Михайлович в 1790 году «письмо и малую посылочку» Трубецкому.
Сношения с цесаревичем и его берлинскими друзьями, конечно, и погубили Новикова, подвергнув разгрому весь кружок. Екатерина не могла без достаточных улик тронуть влиятельных закулисных столпов масонской партий, вроде кн. Репнина; как видно из записок Лопухина, она долго искала причину для ареста даже поручика Новикова. Эту причину императрица, вероятно, нашла в переписке московских розенкрейцеров с Кутузовым и Шрёдером; может быть, также она увидела из письма последнего, что благодаря наличию разногласий кружка с Новиковым, отставного поручика вполне возможно арестовать и без причины — никто не заступится. Официальным поводом ареста Новикова было подозрение в том, что он напечатал «Историю о страдальцах соловецких». На следствии, однако, вопрос об этом не поднимался. Наоборот, пункт о его сношениях с Павлом Петровичем (21-й) был выделен как особо важный. Пункту этому придавал чрезвычайную важность и сам Новиков, делая к своим объяснениям по этому пункту длинное предисловие: «Яко совершенный преступник в истинном и сердечном моем раскаянии и сокрушении, повергаю себя к стопам Ее Императорского Величества, яко недостойный никакого милосердия и помилования, но повинный всякому наказанию, которое воля Ее Императорского Величества мне определит».
Правда, в дальнейших словах Новиков представлял свои переговоры с Павлом в совершенно смягченном виде. Отчасти это можно приписать тому, что Новиков во время допроса сам был испуган тем широким политическим и даже международным значением, которое приняли его поступки. Но отчасти это сходится с общим тоном показаний Новикова. Новиков — как это и было вполне естественно в его положении — старался на следствии обесцветить и преуменьшить значение масонства и свое участие в нем[291].
«Нападение на масонство и Новикова имело тайную причину, — писал Д. П. Рунич, конечно хорошо осведомленный в этом деле (как знакомый Новикова, сын старого его друга и одно время — близкий к Лабзину). — …Баженов описывал стеснение, в котором наследник находится, — и сего достаточно было, чтобы заключить, что Новиков и общество злоумышляют заговор… Говорили, что не столько французская революция была причиною засады Новикова в крепость, сколько внушенная Екатерине мысль, что он и общество масонов желают возвести на престол России наследника, ее сына».