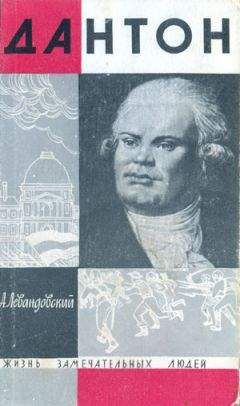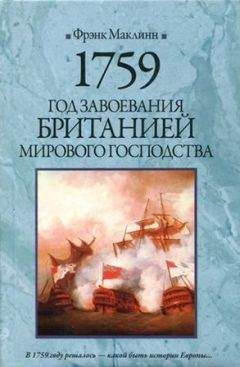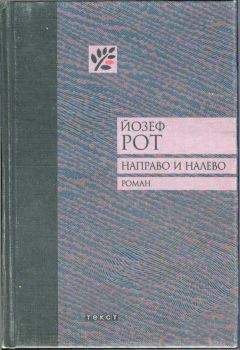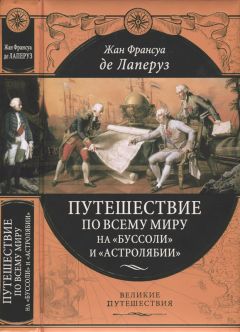С упорством маньяка держится Дантон за эти мифические «завоевания», которых больше не существует. Очень уж многим связал он себя с теорией «естественных границ», а следовательно, и с оскандалившимся генералом. Он уверяет других и себя самого в том, в чем давно уже потерял уверенность, что давно грызет его душу тяжкими сомнениями. И только когда непреложные факты бьют ему прямо в лоб, когда надежде не остается больше ни малейшей лазейки, он вдруг трезвеет. Инстинкт самосохранения начинает свою работу. Завоеваний не спасешь, надо спасаться самому! Но как? Теперь, зарвавшись сверх всякой меры, как же будет он отступать к пределам жестокой реальности? И кто вызволит его из трясины, в которой он столь глубоко увяз?
Дантон знает: это может сделать только народ, именем которого действуют все партии, но который ему, Дантону, до сих пор всегда служил верной опорой.
И Жорж апеллирует к народу.
27 марта он произносит в Конвенте одну из тех блестящих речей, которые надолго остаются в памяти. О чем же говорит он, однако? Об измене Дюмурье? О мерах, которые следует немедленно принять против мятежного генерала? Ничего похожего. Дантон выясняет очередные задачи революции. Он обрушивается на «внутренних врагов» и напоминает, что Чрезвычайный трибунал все еще не организован.
– Что же скажет на это народ, повсеместно готовый подняться, народ, который видит и понимает все происходящее? Мелкие страсти волнуют его представителей, в то время как они должны бы направить всю свою энергию и против внутреннего и против внешнего врага.
Помните, – заклинает оратор, – что революция может быть совершена только самим народом: он – орудие революции, а вы – призваны руководить этим орудием… Революция разжигает все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени!..
Создавая этот необыкновенно яркий и сильный образ, гениальный импровизатор сам доводит Конвент до точки кипения. Среди общих аплодисментов он снова требует вооружения народа за счет богачей, снова призывает к выполнению революционного долга.
– Покажите себя беспощадными, покажите себя революционерами, как сам народ. И вы спасете его…
Только после этого – ибо скрыть горький факт все равно уже невозможно – трибун вдруг вспоминает о Дюмурье. Правда, он даже не хочет назвать его имени. Как бы вскользь, между прочим он говорит о «генерале, который пользовался большой популярностью, а потом пришел к печальному концу», будучи «восстановлен против народа». Кто же, однако, его восстановил?
Вот тут-то Дантон и выкладывает свой главный козырь, доверительно сообщая Конвенту:
– Я процитирую вам один факт, о котором прошу немедленно забыть. Ролан писал Дюмурье, который показывал это письмо мне и Делакруа: «Вы должны соединиться с нами, чтобы уничтожить эту парижскую партию, особенно Дантона». Судите сами, граждане, каким примером мог служить и какое ужасное влияние мог оказывать человек с воображением настолько извращенным, чтобы высказывать такие мысли, причем человек этот стоял во главе республики! Но оставим все это и опустим завесу над прошлым…
Конечно, о завесе – это лишь ради красоты стиля. И в существовании приведенной цитаты можно очень сильно сомневаться. Но замечателен сам выверт Дантона. Открестившись, наконец, от предателя-генерала, он единым махом взваливает и вину за это предательство и все его последствия целиком на плечи Жиронды!
Слишком поздно. На этот раз Жиронда его опередила.
Правительство, наконец, решилось на энергичные меры. 29 марта в Бельгию были посланы четыре комиссара во главе с военным министром. Они должны были отрешить Дюмурье от командования и арестовать его.
Но арестованными оказались министр и комиссары.
Дюмурье выдал их неприятелю.
После этого он попытался увлечь свою армию на Париж. Но армия не подчинилась предателю. От пуль собственных солдат Дюмурье укрылся в лагере австрийцев. Так кончились его честолюбивые замыслы и началась печальная жизнь изгнанника-эмигранта.
Вместе с ним бежали за границу сын Филиппа Эгалите и несколько офицеров-роялистов.
А по Парижу в это время усиленно распространялся слух:
– Дантон арестован. Связанный со злодеем Дюмурье, он предстанет перед Чрезвычайным трибуналом.
Это была ложь. Слух пустили жирондисты. Но правда состояла в том, что демагога действительно призвали к ответу. Комиссия общественного спасения требовала, чтобы он объяснил свои действия в Бельгии. Конвент требовал, чтобы он представил отчет в своих денежных тратах со времени министерства и по сей день. Якобинцы требовали, чтобы он оправдался от обвинений в связях с предателем. Его имя склонялось повсюду: в политических салонах, в клубах, в кулуарах Конвента.
Да, Жиронда опередила Дантона. Бриссотинцы, давшие эполеты Дюмурье и смотревшие на него как на оракула, бриссотинцы, не принявшие ни единой меры в целях успешного ведения войны, теперь торопились отыграться на своем конкуренте.
– Он дружил с генералом! Он сидел с ним в одной ложе в театре! Он защищал его дольше всех!..
Жорж изворачивался, словно угорь. Наконец он не выдержал.
– Требуют моей головы! – исступленно закричал он в Конвенте 30 марта. – Вот она!..
Но голова на этот раз осталась у него на плечах, сколь ни желали ее жирондисты. Накануне 1 апреля, дня, в который «государственные люди» наметили окончательно раздавить Дантона, он вдруг заключил соглашение с Маратом, тем самым Маратом, от которого до сих пор так упорно открещивался. Жорж пообещал Другу народа «сорвать маску с Жиронды». За Маратом были Гора и якобинцы. За якобинцами стоял французский народ. А народ был силой, против которой изощренные в интригах друзья госпожи Ролан оказались бессильными что-либо предпринять.
С утра 1 апреля большой зал Манежа был переполнен. Галереи для публики грозили рухнуть под напором санкюлотов. Все ждали обещанную речь Дантона.
Но битву начали жирондисты. Первым выступил протестантский пастор Ласурс. Он выразил удивление, что Дантон столь долго и упорно защищал подозрительного генерала. Не говорит ли это о многом? Пусть-ка заподозренный трибун расскажет поподробнее о своем поведении в Бельгии.
Жорж ответил спокойно, придерживаясь умеренных выражений. Он заявил, что у него были совсем разные цели с мятежным генералом. Все свои действия он неизменно согласовывал с другими комиссарами, и если проглядел что-либо, если не сразу понял игру предателя, в этом вина не его одного.
Умело группируя факты, Дантон показал, что, по существу, действия Дюмурье совпадали с программой Жиронды…
Впрочем, он не станет развивать этой темы. Довольно говорить о прошлом. Нужно найти средства исправить допущенные ошибки.
Жирондисты торжествуют. Им кажется, что их противник струсил и готов капитулировать. Вот теперь-то и следует наносить смертельный удар!
Снова встает Ласурс. На этот раз он прямо утверждает, что Дантон вместе с Дюмурье хотел восстановить королевскую власть во Франции. Делакруа и Дантон – один в Бельгии, другой в Париже – управляли главными нитями заговора.
Дантон молча слушает своего противника. Его губы кривятся в презрительной усмешке, в глазах искрится гнев, но он терпеливо ждет своей очереди.
Ласурса сменяет Биротто. Он поддакивает своему предшественнику. Да, конечно, Дантон жаждал королевской власти. Недаром об этом постоянно твердил его друг Фабр д'Эглантин…
Жорж взрывается.
– Вы негодяи! – кричит он с места. – Наступит время суда над вами!
Конвент большинством голосов назначает комиссию для расследования дела Дантона. Это поражение. Это позор. Он – обвиняемый!
Жорж вскакивает и несется к трибуне. По дороге он бросает монтаньярам:
– Эти подлецы хотели бы взвалить на наши головы все свои преступления!
Но Жиронда не желает давать ему слова. Пусть оправдывается перед комиссией! Дантон в нерешительности.
Тогда вся Гора поднимается со своих мест. С галерей несутся крики и одобрительные хлопки.
Жорж яростно расшвыривает стоявших на его пути и овладевает трибуной. Все! Теперь они у него в руках!..
Дантон вытирает мокрый лоб. Секунду он смотрит в бушующий зал. Затем обращается к верхним рядам амфитеатра:
– Прежде всего я должен отдать вам справедливость, как истинным друзьям народа, вам, граждане, сидящие на этой Горе: вы видели лучше, чем я.
Я долго думал, что при всей стремительности моего характера мне нужно смягчать данный природой темперамент и держаться умеренности, которую, как мне казалось, предписывали обстоятельства. Вы обвиняли меня в слабости, и вы были правы: я признаю это перед лицом всей Франции!..