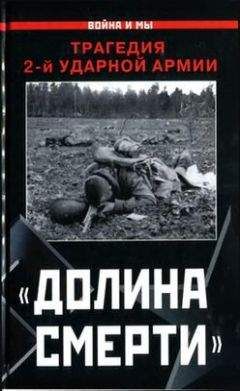Вообще разве, выражаясь фигурально, нельзя сказать, что французская конституция, пускающаяся в путь, страдает ревматизмом, полна колющих внутренних болей в сочленениях и мышцах и идет с трудом?
Глава пятая. КОРОЛИ И ЭМИГРАНТЫ
Известны примеры, когда и крайне ревматические конституции шли и держались на ногах, хотя и шатаясь и спотыкаясь, в течение долгого времени, но только благодаря одному условию: голова была здорова. А голова французской конституции! Что такое король Людовик и чем он не может не быть, читатели уже знают. Это король, который не может ни принять конституцию, ни отвергнуть ее, ни вообще что-нибудь сделать, а только жалобно спрашивает: "Что мне делать?", король, который окружен бесконечной смутой и в уме которого нет и зародыша порядка. Остатки гордого, непримиримого дворянства борются с униженно-раскаивающимися Барнавами и Ламетами, борются среди темного элемента посыльных и носильщиков, хвастунов на половинном жалованье из кафе "Валуа", среди горничных, наушников и низших служащих, под взглядами озлобленных патриотов, все более и более подозрительных, - что они могут сделать в такой борьбе? В лучшем случае уничтожить друг друга и произвести нуль. Бедный король! Барнавы и Жокуры серьезно говорят ему на одно ухо, Бертран-Мольвили и посланные из Кобленца - на другое; бедная королевская голова поворачивается то в ту, то в другую сторону и не может решительно склониться ни на одну. Пусть скромность накинет на это покрывало: более жалкое зрелище редко видывал мир. Только один мелкий факт проливает грустный свет на многое. Королева жалуется г-же Кампан: "Что мне делать? Когда они, эти Барнавы, советуют нам что-нибудь, что не нравится дворянству, то на меня все дуются, никто не подходит к моему карточному столу, король отходит ко сну в одиночестве". Что делать в таком сомнительном случае? Идти к неизбежной гибели!
Король принял конституцию, зная наперед, что это ни к чему не приведет; он изучает ее, исполняет, но главным образом в надежде, что она окажется невыполнимой. Королевские суда гниют в гаванях, офицеры с них разбежались, армия дезорганизована, разбойники заполняют проезжие тракты, которые к тому же не ремонтируются, все общественные учреждения бездействуют и пустуют. Исполнительная власть не делает никаких усилий, кроме одного - навлечь недовольство на конституцию, и притворяется мертвой (faisant la mort!). Какая же конституция, применяемая таким образом, может идти? "Она опротивеет нации", что действительно и будет26, если только вы сами раньше не опротивеете ей. Ведь это план Бертрана де Мольвиля и Его Величества, лучший, какой они могли придумать.
А что, если выполнение этого прекрасного плана пойдет слишком медленно или совсем не удастся? Предвидя это, королева в глубочайшей тайне "пишет целый день и изо дня в день шифрованные послания в Кобленц"; инженер Гогела, знакомый нам по Ночи Шпор, которого амнистия Лафайета освободила из тюрьмы, скачет взад и вперед. Иногда в подобающих случаях бывает, что король наносит визит в Salle de Manege, произносит трогательную ободряющую речь (в ту минуту, несомненно, искренно), и все сенаторы рукоплещут и почти плачут; в то же самое время Малле дю Пан[112], по видимости прекративший издание газеты, тайно везет за границу собственноручное письмо короля, в котором тот просит помощи у иностранных монархов. Несчастный Людовик, делай же что-нибудь одно, - ах, если бы ты только мог!
Но единственные действия королевского правительства сводятся к смятенному колебанию от одного противоречия к другому, и, смешивая воду с огнем, оно окутывается густым шипящим паром. Дантона и нуждающихся патриотов подкупают денежными подарками; они принимают их, улучшая тем самым свое положение, и с этой поддержкой идут своей дорогой. Королевское правительство нанимает даже рукоплескателей, или клакеров, которые должны аплодировать. У подпольного Ривароля полторы тысячи человек на королевском жалованье, составляющем около 250 000 франков в месяц, которых он называет "генеральным штабом". Этот штаб, самый странный из когда-либо существовавших, состоит из публицистов, сочинителей плакатов и из "двухсот восьмидесяти клакеров, получающих по три франка в день". Распределение ролей и счетные книги по этому делу сохранились до сих пор. Бертран де Мольвиль ухитряется заполнять галереи Законодательного собрания и считает свой способ очень искусным: он нанимает санкюлотов идти на заседание и рукоплескать по данному сигналу, и те идут, полагая, что их пригласил Петион; эта хитрость не открывалась с неделю. Довольно ловкий прием, похожий на то, как если бы человек, находя, что день слишком короток, решил перевести часовую стрелку: только это для него и возможно.
Отметим также неожиданное появление при дворе Филиппа Орлеанского последнее появление его при выходе какого бы то ни было короля. Некоторое время назад, по-видимому в зимние месяцы, он получил давно желанный чин адмирала, хотя только над гниющими в гавани кораблями. Желаемое пришло слишком поздно! Между тем он обхаживает Бертрана де Мольвиля, чтобы принести благодарность, даже заявляет, что желал бы поблагодарить Его Величество лично; что, несмотря на все отвратительные вещи, которые про него рассказывают, он далек в сущности, весьма далек от того, чтобы быть врагом Его Величества! Бертран передает поручение, устраивает королевскую аудиенцию, которой Его Величество доволен. Герцог, видимо, совершенно раскаялся и решил вступить на новый путь. И однако, что же мы видим в следующее воскресенье? "В следующее воскресенье, - говорит Бертран, - он явился к выходу короля; но придворные, не зная о происшедшем, - кучка роялистов, привыкших приносить королю приветствие именно по этим дням, устроили ему в высшей степени унизительный прием. Они обступили его тесным кольцом, старались, как бы нечаянно, наступать ему на ноги, вытолкали его локтями за дверь и не пустили снова войти. Он пошел вниз, в апартаменты Ее Величества, где был накрыт стол; едва он показался, как со всех сторон раздались голоса: "Господа, берегите блюда!", словно у него в карманах был яд. Оскорбления, которым он подвергался всюду, где бы ни появлялся, заставили его удалиться, не повидав королевской семьи. Все последовали за ним до лестницы королевы; спускаясь, он получил плевок (crachat) на голову и несколько других на платье. Бешенство и злоба ясно отражались на его лице". Да разве могло быть иначе? Он винит во всем этом короля и королеву, которые ничего не знают, и даже сами этим очень огорчены, затем снова исчезает в хаосе. Бертран находился в тот день во дворце и был очевидцем случившегося.
Что касается остального, то неприсягающие священники и преследования их тревожат совесть короля; эмигрировавшие принцы и знать принуждают его к двойственным поступкам, и одно veto следует за другим при всевозрастающем негодовании против короля, ибо патриоты, наблюдающие за всем извне, проникаются, как мы уже сказали, все большей подозрительностью. Снаружи, следовательно, возрастающая буря, одна вспышка патриотического негодования за другой, внутри - смятенный вихрь интриг и глупостей! Смятение и глупость, от которых невольно отворачивается глаз. Г-жа де Сталь плетет интриги в угоду своему любезному Нарбонну, чтобы сделать его военным министром, но не обретает покоя, даже и добившись этого. Король должен бежать в Руан, должен там с помощью Нарбонна "изменить конституцию надлежащим образом". Это тот самый ловкий Нарбонн, который в прошлом году при помощи драгун вызволил из затруднительного положения бежавших королевских теток. Говорят, что он их брат, и даже больше, - так жаждет сплетня скандалов. Теперь он поспешно едет со своей де Сталь к войскам в пограничные города, присылает не совсем достоверные, подкрашенные розовыми красками донесения, ораторствует, жестикулирует, маячит горделиво некоторое время на самой вершине, на виду у всех, потом падает, получив отставку, и смывается рекой времени.
Интригует, к негодованию патриотов, и принцесса де Ламбаль, наперсница королевы; злополучная красавица, зачем она вернулась из Англии? Какую пользу может принести ее слабый серебристый голосок в этом диком реве мирового шквала, который занесет ее, бедную, хрупкую райскую птичку, на страшные скалы. Ламбаль и де Сталь, вместе или порознь, явно интригуют; но кто мог бы счесть, сколько и сколь различными путями незаметно интригуют другие! Разве не заседает тайно в Тюильри так называемый австрийский комитет, центр невидимой антинациональной паутины, нити которой тянутся во все концы земли, ибо мы окружены тайной? Журналист Карра теперь вполне уверен в этом; для патриотов партии Бриссо и для Франции вообще это становится все более и более вероятным.
О читатель, неужели тебе не жаль этой конституции? В членах у нее колющие ревматические боли, в мозгу - тяжесть гидроцефалии и истерического тумана, в самом существе ее коренится разлад; эта конституция никогда не пойдет; она едва ли даже сможет брести, спотыкаясь! Почему Друэ и прокурор Сосс не спали в ту злосчастную вареннскую ночь! Почему они, во имя Неба, не предоставили берлине Корф ехать, куда ей вздумается! Невыразимые несообразности, путаница, ужасы, от которых до сих пор содрогается мир, были бы, быть может, избегнуты.