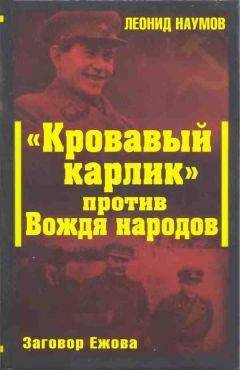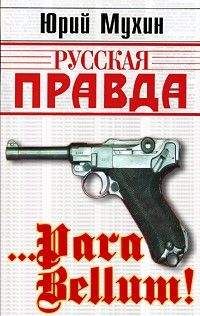То есть если руководство НКВД и делало попытки избежать утечки информации о чистке, то довольно неуклюже. Как, например, понять такой эпизод: «Однажды, когда мы ехали с ним в машине из Валенсии в Барселону, он [Шпигельглаз] вновь заговорил о массовых арестах и рассказал, между прочим, о самоубийстве ряда видных сотрудников НКВД, которых мы оба хорошо знали. Он перечислял фамилии крупнейших деятелей, исчезнувших за последние месяцы, и неожиданно произнес: «Они прикончили также и Орджоникидзе!»
Услышав это, я вздрогнул. Хотя Шпигельглаз только подтвердил слух, дошедший к нам через дипкурьера, у меня невольно вырвалось: «Не может быть!»
— Это точно, — возразил Шпигельглаз. — Я знаю подробности этого дела. У Орджоникидзе тоже текла в жилах кавказская кровь — вот он и поссорился с хозяином. Нашла коса на камень…» [32].
Трудно не задать себе вопрос, с какой целью заместитель начальника отдела рассказывал все это своему резиденту в Испании. Понятно, конечно, что может быть, им просто двигали эмоции и страх. Может быть, даже вероятнее всего, он боялся. Непонятно другое — откровенность в разговоре с Орловым увеличивала его безопасность или нет? А если бы Орлов после визита начальника написал бы донесение в Центр, что, собственно, он и должен был бы сделать? Ведь откровенность Шпигельглаза очень похожа на провокацию, особенно в том, что касается информации и о смерти Орджоникидзе, и о смерти Слуцкого. И что, Шпигельглаз этого не понимал? Или Орлов придумал все эти откровения… Странная история…
Было бы наивно думать, что причины смерти Слуцкого скрывали только потому, что Ежов нуждался в его имени, чтобы не потерять зарубежную резидентуру. Похоже, там довольно хорошо представляли, что происходит в СССР.
Обратим внимание на еще одну деталь: «Ежов распорядился, чтобы гроб с телом Слуцкого был выставлен в главном клубе НКВД «для прощания с умершим» и чтобы вокруг гроба нес дежурство почетный караул» [32]. Это тоже для резидентов в Праге, Париже, Мадриде и Нью-Йорке? Впечатление, что все это скорее «для внутреннего пользования», что надо ввести в заблуждение кого-то внутри страны. Может быть, кого-то в Кремле?
А. Павлюков в крайне интересном исследовании «Ежов» также считает, что Слуцкого убили. Автор связывает его смерть с тем, что два «партийца», пришедшие в органы вместе с Ежовым — Баранов и Курмашев, «раскололи» арестованного комиссара ГБ 1-го ранга Агранова и тот дал показания о «враждебной деятельности Слуцкого в органах» [43, с. 368]. Фриновский и Ежов испугались, что эта информация дойдет до Сталина раньше, чем они успеют ему доложить. Поэтому руководством НКВД было принято решение «сдать» Слуцкого, и с согласия вождя он был ликвидирован. Правда, в работе Павлюкова содержится и иная информация, не совсем согласующаяся с его версией. На следствии бывший нарком внутренних дел Украины Успенский показал, что когда Фриновский позвонил в Киев Ежову и рассказал о смерти Слуцкого, то из их разговора Успенский понял, а затем это ему «рассказал и Ежов, что Слуцкий неудачно сделал какую-то работу за кордоном, имел по этому поводу крупный разговор с Фриновским и неприятность для себя, что он от этого затянулся папиросой и умер якобы от разрыва сердца. Я еще тогда сказал Ежову, что сомневаюсь, что Слуцкий помер естественной смертью, и думаю, что папироса у него была не простая, а с какой-либо начинкой…Ежов замялся и ответил: «Все возможно» [82, с. 371].
Павлюков не объясняет, почему, с его точки зрения, Ежов уклонился от контроля за ликвидацией Слуцкого и поручил исполнение Фриновскому (подчеркну — не исполнение, конечно, а именно контроль). Автор пишет, что наркому это нужно было, «чтобы избежать возможных подозрений в причастности». Но подозрений с чьей стороны? Ведь, по мнению Павлюкова, Сталин и так знал о том, что Слуцкого уберут, что же это Ежов так «шифровался» от зарубежных резидентов? Может быть, Сталин все-таки не все знал, или, может быть, он знал о «предательстве» Слуцкого, но не то, что было на самом деле, а то, о чем ему доложили? Тогда страх Ежова понятнее. Обратим внимание и на то, что сказал Ежов: «…Слуцкий неудачно сделал какую-то работу за кордоном, имел по этому поводу крупный разговор с Фриновским».
Чтобы разобраться в смысле произошедшего, надо сначала вспомнить, что за фигура комиссар ГБ 2-го ранга СЛУЦКИЙ АБРАМ АРОНОВИЧ. Он родился в 1898 г., в украинском селе, отец кондуктор. Затем семья переехала в Среднюю Азию, учился в гимназии г. Андижана. В 1917 г. вступил в партию большевиков. С 1920 г. сотрудник Ташкентской ЧК. Вскоре заместитель председателя Верховного трибунала Туркестана. В 1926 г. его перевели в экономический отдел ОГПУ. Одно время Слуцкий — секретарь парткома ОГПУ. В ЭКУ он — один из «создателей» «Шахтинского дела». С 1930 г. он работает в ИНО, где стал заместителем начальника отдела Артузова. В 1931–1933 годах находился на работе в торгпредстве в Германии. Являлся главным резидентом ИНО ОГПУ по странам Европы, возглавлял параллельный с московским центр разведки. Когда Артузова перевели в Разведупр, Слуцкий стал начальником ИНО.
Павел Судоплатов «уважал Слуцкого как опытного руководителя разведки» и внимательного человека [33, с. 108]. Иначе считал Орлов: «Его характерными чертами были лень, страсть к показухе и пресмыкательство перед вышестоящим начальством. Слабохарактерный, трусливый, двуличный Слуцкий в то же время был неплохим психологом и обладал тем, что называется «подход к людям». Одаренный богатой фантазией, он умел притворяться и артистически разыгрывать роль, которую в данный момент считал выгодной для себя. Его выразительные глаза, лучащиеся добротой и теплом, внушали впечатление такой искренности, что на эту приманку нередко клевали даже те, кто хорошо знал Слуцкого» [40]. Вместе с тем он также высоко оценивал профессиональные качества Слуцкого.
Кривицкий рассказывает историю, удивительно хорошо подтверждающую рассказ Орлова:
«Перед первым московским процессом Ягода поручил Слуцкому провести допрос троцкиста Мрачковского и «сломить» человека, к которому Слуцкий питал глубокое уважение. Мы оба плакали, когда Слуцкий рассказывал мне о своем опыте в качестве инквизитора (выделено мной. — Л.Н.). Я передам рассказ Слуцкого, насколько он запомнился мне.
— Когда я начал допрос, я был чисто выбрит. Когда я закончил его, у меня выросла борода, — рассказывал Слуцкий. — Допрос продолжался девяносто часов. Каждые два часа раздавался звонок из кабинета Сталина. Его секретарь спрашивал: «Ну как, удалось вам уломать его?»
— Вы хотите сказать, что не покидали кабинет все это время? — спросил я.
— Нет, после первых десяти часов я вышел ненадолго, но мое место занял мой секретарь. В течение девяносточасового допроса Мрачковского не оставляли одного ни на минуту. Его сопровождал охранник, даже когда он ходил в уборную.
Когда он в первый раз вошел в мой кабинет, он хромал, давало себя знать ранение ноги, полученное им в Гражданскую войну. Я предложил ему стул. Он сел. Я начал допрос словами: «Видите ли, товарищ Мрачковский, я получил приказ допросить вас». Мрачковский ответил: «Мне нечего сказать. Вообще мне не хочется вступать с вами в какие-либо разговоры. Вы и вам подобные хуже любого царского жандарма. Скажите мне, какое право вы имеете допрашивать меня? Где вы были во время революции? Я что-то не припомню, чтобы когда-либо слышал о вас в дни революционной борьбы» [31, с. 176].
Мрачковский заметил два ордена Красного Знамени на груди у Слуцкого и продолжал:
— Таких я на фронте никогда не встречал. Что же до орденов, то вы, должно быть, украли их.
Слуцкий молчал, он дал своему заключенному возможность излить желчь.
…Мрачковский поднялся и одним быстрым движением распахнул рубаху, обнажив шрамы от ран, полученных в сражениях за Советскую власть.
— Вот мои ордена! — воскликнул он…
Наконец Слуцкий заговорил:
— Нет, товарищ Мрачковский, я не крал своих орденов Красного Знамени. Я получил их в Красной Армии, на Ташкентском фронте, где сражался под вашим командованием. Я никогда не считал вас подлецом, да и сейчас не считаю. Однако вы находились в оппозиции и боролись против партии? Несомненно. А теперь партия дала мне приказ допросить вас. А что касается ран, посмотрите!
И Слуцкий оголил часть тела, показывая свои боевые шрамы.
— Они тоже с Гражданской войны, — добавил он. Мрачковский внимательно слушал, а затем сказал:
— Я не верю вам. Докажите мне.
Слуцкий велел принести свою официальную автобиографию из архива ОГПУ. Дал ее прочесть Мрачковскому. Затем он сказал:
— Я состоял в ревтрибунале после Гражданской войны. Позже партия направила меня в ОГПУ. Я лишь выполняю приказы. Если партия прикажет мне умереть, я пойду на смерть.