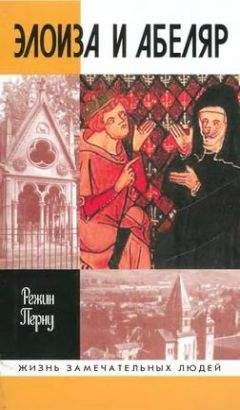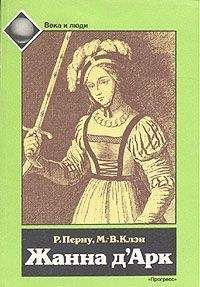Когда Людовик Святой после освобождения велел отсчитать деньги, которые он должен был в качестве выкупа согласно обещанию передать султану, кто-то ему дал понять, что было отсчитано на десять тысяч безантов меньше, так что сарацины ничего не заметили. Король рассердился и приказал пересчитать деньги перед ним, дабы быть уверенным, что вся сумма целиком выплачена. Так в действиях и поступках крестоносцев оживает ментальность эпохи. Рассказ Жуанвиля позволяет нам уловить ее живой, с ее силой и слабостями. Не говоря об историческом интересе этого «репортажа», он представляет собой человеческий документ первостепенной важности, поскольку передает без литературных прикрас и без налета восприятия, свойственного благородному человеку, типичные реакции людей, составляющие тайну прошлой эпохи. Ее герои предстают настолько сроднившимися со сверхъестественным миром, что их ощущение будущего представляется глубоко отличным от нашего, отличным от всякого другого, казавшегося бы нормальным в атмосфере менее накаленной или менее одухотворенной. И именно в худших обстоятельствах спокойно утверждалась их вера, вызывавшая восхищение даже мусульман.
Однажды, когда Жуанвиль и его товарищи отказались сдать свои крепости и с минуты на минуту ждали своей казни, «в наш шатер вошла большая толпа юных сарацин с мечами на боках и привели с собой совершенно седого глубокого старца, который велел спросить у нас, действительно ли мы верим в единого Бога, который был за нас схвачен, ранен и убит, а на третий день воскрес; и мы ответили „да“». Это «да» в тех условиях могло стоить им жизни. Но разговор закончился иначе, как они и не предполагали: «Старец нам сказал, что мы не должны отчаиваться, ибо претерпели страдания за Него и еще не умерли за Него, как Он умер за нас, и если Он смог воскреснуть, то мы можем быть уверены, что Он освободит нас, когда пожелает». «После этого, — продолжает Жуанвиль, — он ушел, а с ним и все молодые люди. Я был очень доволен, поскольку не сомневался, что они пришли отрубить нам головы».
Другой захватывающий рассказ показывает, до какой степени мир горний, в который они веровали, был для этих людей важнее мира земного. На сей раз речь идет о случае, произошедшем в лагере крестоносцев в то время, когда их армия в тяжелом положении, пораженная эпидемией, была блокирована сарацинами на берегу Нила. Жуанвиль заболел сам: «Из-за ранений болезнь, охватившая лагерь, поразила и меня. У меня заболели десны и ноги, начались лихорадка и такой сильный насморк, что текло из носа; и по причине перечисленных недугов я в середине поста слег в постель, отчего моему священнику приходилось служить мессу в палатке у моей кровати, и он заболел той же болезнью, что и я. Когда он совершал освящение, то едва не упал в обморок. Увидав, что он вот-вот упадет, я, босой, в одной рубахе, соскочил с постели, подхватил его и сказал ему, чтобы он быстро и спокойно продолжал причащение и что я не отпущу его, пока он не закончит; он пришел в себя, свершил таинство и закончил мессу; но больше никогда он уже не служил ее».
Этот случай, за простотой которого стоит нечто возвышенное, характерен для той эпохи. В наше время при виде падающего в обморок у алтаря священника первой реакцией было бы вызвать врача; для рыцаря же XIII в. главным было свершение таинства и окончание мессы.
Другой рассказ дает нам почувствовать атмосферу того времени и понять, до какой степени чудо казалось тогда неотъемлемым от повседневной жизни. Это одна из тайн эпохи и, возможно, глубинная причина ее динамизма — вера в то, что естественная игра причин и следствий, включая сюда наиболее неизбежные, может всегда быть изменена вмешательством сверхъестественных сил. Предоставим вновь слово хронисту: «Другое происшествие случилось на море; мессир Драгоне, знатный человек из Прованса, спал утром на своем корабле, находившемся в добром лье впереди нашего, и он позвал своего оруженосца, сказав ему: „Поди заткни то отверстие, а то солнце бьет в глаза“. Оруженосец понял, что не сможет его закрыть, если не спустится за борт, и он спустился. Пока он затыкал отверстие, у него соскользнула нога, и он упал в воду; а на этом корабле не было шлюпки, поскольку он был маленьким, и он быстро отошел. Мы на королевском судне видели оруженосца, но полагали, что это вьюк или бочка, поскольку он никак себе не помогал, чтобы спастись. Одна из галер короля подобрала его и доставила на наш корабль, где он рассказал нам, что с ним приключилось. Я спросил его, почему он ничего не делал, дабы спастись, не плыл или что еще. И он мне ответил, что у него не было никакой потребности или нужды помогать себе, ибо едва начав падать, он препоручил себя Богоматери, и Она поддерживала его за плечи с момента падения и до того, как его подобрала галера короля. В честь этого чуда я велел изобразить его в моей часовне в Жуанвиле и на витражах в Блекуре».
Этих нескольких историй достаточно, чтобы понять, сколько мистического было в крестовом походе Людовика Святого, в нем самом и его соратниках, и вообще в том, что было наиболее чистым в рыцарстве. Верность данному слову, дух солидарности и своего рода близость с миром сверхъестественного — все это характеризует героя того времени, каким он запечатлен в скульптуре Реймсского собора, в знаменитом образе «Причащения рыцаря». Несомненно, такие люди в плане человеческом были на том же уровне, что и скульптурное произведение в плане художественном. Благодаря этому можно представить себе цивилизацию, способную и на постройку соборов, и на поиски Грааля. Ее люди ставили на службу мистике свои технические знания, которые также представляли собой одну из вершин эпохи.
Крестовый поход, начавшийся при столь многообещающих обстоятельствах, не мог не завершиться успехом. Он действительно начался с военного подвига, возможно, самого блестящего за всю историю заморских королевств, — взятия Дамьетты, города, перед которым за несколько десятилетии до этого спасовало столько армии, взятия при самой высадке одним броском. До нас дошел рассказ об этом в письме шамбеллана Франции Жана де Бомона главному хлебодару Жоффруа де ла Шапель: «От порта Никозия на Кипре с сеньором королем отплыл такой флот, коему, полагаю, никогда не было равных. И, действительно, было более ста двадцати больших кораблей и более восьмисот судов поменьше, которые в пятницу после Троицы (4 июня), по большей части удачно и счастливо дошли до порта Дамьетта. В субботу рано утром после молитвы и божественной службы сеньор король, его братья, бароны, рыцари, а также сержанты и стрелки перешли с больших кораблей на маленькие, как аглеры и прочие, чтобы подойти к берегу и высадиться. Поскольку суда не могли подойти к самому берегу, сеньор король, бароны, рыцари и все прочие без малейшего страха радостно бросились в воду, доходившую им до груди, с копьями и арбалетами в руках и храбро ударили по врагам креста как доблестные богатыри Божьи. Вооруженные конные сарацины держались на берегу, преграждая нам путь на землю, и чтобы защитить ее, они осыпали нас стрелами и дротиками. Однако наши, коих вел сеньор Христос, мужественно вышли на сушу, отбив сарацин, и с помощью Божьей сразу же одержали победу и обратили коварных сарацин в бегство, так что большинство их было убито, а многие смертельно ранены. Так, сарацины были вынуждены освободить побережье к своему позору, и Бог вселил в их сердца такой страх, что на следующий день, в воскресенье, они все, и большие, и малые, бежали из своего города, поджогши дома и городские ворота. По поднявшемуся дыму мы узнали о поражении и бегстве сарацин».
Но этот необычайный успех не имел продолжения. Или, скорей, его результаты оказались мало-помалу сведенными на нет теми обстоятельствами, которые тоже проявляют ментальность спутников Людовика Святого как оборотную сторону прекрасных медалей. Французское рыцарство совершило здесь свою специфическую ошибку, какую в последующие времена стало совершать все чаще и чаще, поставив французское королевство на грань катастрофы. Поэтому этот крестовый поход Людовика Святого производит впечатление вершины, откуда одинаково видны и скат вниз, и путь дальше наверх. И именно собственный брат короля, Робер д'Артуа, лучше всего персонифицирует этот порок рыцарства, заключающийся в отказе от сплоченности, обеспечивающей силу, ради поиска личных подвигов, от доблести ради дерзости, от истинной славы ради тщеславия.
Робер д'Артуа воплощал в себе злого гения экспедиции. Это он убедил короля, вопреки совету баронов, предпринять наступление на Вавилон (Каир) вместо того, чтобы осадить Александрию, где благодаря порту армию легко было бы обеспечивать всем необходимым. С другой же стороны, из-за его глупого фанфаронства была сразу же нарушена диспозиция сражения, разработанная королем. Описывая начало сражения при Мансурахе, Жуанвиль говорит, что «было решено составить авангард из тамплиеров»; чтобы вступить в сражение, армия должна была по броду перейти Бахр-эс-Сегир, а поскольку переход был долгим, нужно было время для построения армии в соответствии с диспозицией, где графу д'Артуа отводилось второе место после тамплиеров. «Но, как только граф д'Артуа перешел реку, он и все его люди бросились на турок, бежавших от них. Тамплиеры заявили ему, что он наносит им оскорбление, вырвавшись вперед, хотя должен идти за ними, и просили его пропустить их вперед, как было определено королем».