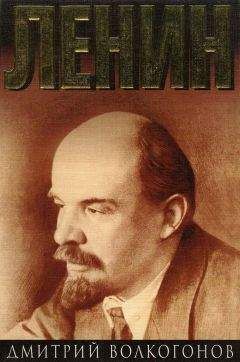Пройдет совсем немного времени, и юный Ульянов уверует в себя как человека, для которого уготована судьба политического литератора, политического публициста, человека-социалиста — нечто загадочно непонятное и тревожное, с налетом некоего народнического романтизма. Неповторимое сцепление жизненных обстоятельств, социальных условий плюс богатые природные данные сформировали ум человека, для которого политика (и все, что с ней связано) стало смыслом всей его жизни. Политическое сознание выглядело явной аномалией, но и эпицентром на фоне всех его остальных склонностей, способностей и устремлений.
Эта политическая флюсообразность ленинского интеллекта часто принимала просто уродливые формы. Известный советский дипломат ленинского времени Адольф Абрамович Иоффе вспоминал, что Ленина в международных вопросах интересовала лишь политическая сторона дела: продвигает ли данная конкретная акция дело революции. "Помню, — пишет Иоффе, — как перед самым подписанием одного договора… В.И. мне прислал записку: "Если договор гарантирует советизацию (данного государства), согласен на его подписание; если нет — не согласен".
Ленин не просто обладал "политизированным" интеллектом, он умел утверждать свою политическую линию канализированием общественной неприязни и даже ненависти в отношении ее врагов. В своих воспоминаниях о Ленине писатель Ф.А.Березовский описывает выступление Ленина на заседании ВЦИК в апреле 1918 года: "…ленинский голос зазвучал тревогой и ненавистью к тем, кто разрушал и саботировал великое дело освобождения трудящихся. И ненависть загоралась огнем во взглядах людей, одетых в серые гимнастерки и черные куртки… Конец доклада был насыщен такой уничтожающей иронией к врагам рабочего класса, что тишина аудитории то и дело прерывалась взрывами заразительного смеха. Казалось, что Ленин стер, уничтожил, похоронил своих противников до их выступлений…
Помню густую, тесную толпу, выносившую меня в стихийном потоке (после выступления. — ДА) на улицу. Вокруг меня горели энтузиазмом глаза. То там, то здесь звучали короткие фразы:
— Долго не забудут меньшевики и эсеры…
— Еще бы!.. Ильич-то?! Он, брат, покажет!
— С ним все будет наше!
— Все возьмем! Весь мир завоюем!""
Политическое мышление Ленина отличается беспощадностью. Он обладает способностью "отодвинуть" в сторону все нравственные, гуманные и иные соображения во имя "политической целесообразности". Универсальная политическая доминанта предписывает всем принимаемым решениям только один классовый вектор. Кажется порой, что это мозг политического автомата.
Ленину докладывают Д.Курский и Л.Каменев по делу о спекуляции в Главсахаре: "…Ввиду того, что все привлеченные к делу лица, за исключением Григорьева, постановлением Московской ЧК уже расстреляны и в этих условиях рассмотрение дела в отношении одного Григорьева поставило бы трибунал в невыгодные условия…" Далее Курский и Каменев рассуждают, что Григорьева можно было бы "уничтожить во внесудебном порядке", ибо "лишение свободы сделало бы его мучеником в глазах приверженцев". Но можно и "условно освободить на поруки всей общины трезвенников…".
Ленин краток: "Согласен с Курским и Каменевым".
Председатель Совнаркома согласен с явным беззаконием (расстреляны без суда, по постановлению ЧК) лишь потому, что установленная им политическая система одобряет подобное решение. Вождистская власть такова, что от особенностей политического мышления одного человека, специфики его интеллекта зависят судьбы множества людей.
В своей записке Чичерину 20 июля 1920 года Ленин предлагает подумать, как установить особые отношения с Ирландской Республикой без ухудшения отношений с Англией.
"…Или можно тайный договор с Ирландской Республикой (пожалуй, следует условие: взаимоинформация, помощь курьерами, изданиями, по возможности оружием, связями); через Ирландскую Республику — связь с коммунистами ирландскими…"
Предлагая заключить "тайный договор", Ленин нисколько не смущается тем, что его борьба с Керенским в огромной степени была построена на разоблачении Председателя
Временного правительства в его приверженности и верности тайным договорам. Тогда Ленин в статье "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" писал, что "искренность в политике есть вполне доступное проверке соответствие между словом и делом". Говоря об "искренности" в политике, Ленин, однако, совсем не собирался смеяться над собой.
Ленинские представления о политическом строе, его умозаключения о "политической целесообразности" становятся доминантой реальной жизни. Ленин просто гениален (с точки зрения достижения большевиками своих целей) в нахождении и принятии единственных политических решений в критические моменты, ведущих к успеху в той или иной ситуации. Так, после февраля 1917 года ни у кого из социал-демократов не возникало даже мысли о возможности немедленного перехода к социалистическому (большевистскому) этапу революции. Ленин, оценив ситуацию, увидел уникальный шанс взять власть. Сколько нужно было иметь политической решимости, чтобы пойти на преступный брестский сговор с немцами! Но выбора у Ленина не было; он пришел к власти на обещании дать мир народу. Не всякий бы решился отдать пол-европейской части России во имя внешнего мира, равного колоссальному поражению, при разгорающемся внутреннем пожаре.
Когда в середине 1918 года Советская Россия сократилась до размеров Московского княжества, Ленин увидел единственный способ устоять, уцелеть, но главное — сохранить власть при помощи неограниченного террора. И он пошел на этот чудовищный террор! Можно назвать десятки других более крупных и более мелких обстоятельств и ситуаций, когда Ленин, внешне не колеблясь, принимал единственное спасающее большевиков решение. Бывали моменты, когда он буквально балансировал над бездной, но политические расчеты, а порой и интуиция выручали его. Это был гениальный ум демона-политика.
Даже и глубоко больного Ленина тянуло только к политике. Она была его страстью, увлечением, судьбой, проклятием. Летом 1922 года он говорил врачу Кожевникову:
— Политика — вещь захватывающая сильнее всего, отвлечь от нее могло бы только еще более захватывающее дело, но такого нет.
Полная "политизация" ленинского мышления не могла не отразиться и на его правосознании. Юрист по образованию, Ленин мало интересовался специальными вопросами юриспруденции. Для него право было лишь гранью политики. Он всегда был политическим прокурором.
После октябрьского переворота старая судебная система подверглась разрушению. Большевики, загипнотизированные романтизированным опытом Французской революции, стали создавать революционные трибуналы. Весьма долго главным критерием оценки правонарушения и преступления была "революционная совесть". Длительное время приговоры не могли быть обжалованы ни в апелляционном, ни в кассационном отношениях. Юристов в трибуналах почти не было. В 1917–1919 годах едва ли не единственной мерой наказания была смертная казнь — расстрел. Никто никогда не узнает, сколько россиян — не только "помещиков, капиталистов и белых офицеров", но и просто случайных людей, почему-либо оказавшихся на пути власти, — после краткого "суда", а порою и без него, было отправлено на тот свет.
Правосознание Ленина имело огромное поле деятельности, поскольку он, будучи Председателем Совета Народных Комиссаров, был непосредственным творцом множества декретов. Все они были, как и "положено" в революционное время, бестолковыми, сумбурными, поспешными, односторонними. Ленин всегда вносил в содержание декретов элементы классовости, масштабности и неотвратимости жестокого наказания.
Имея перед глазами революционных деятелей Французской революции, Ленин давно уверовал, что беспощадность, непреклонность, твердость в репрессиях — истинно великие качества большевика. Сразу после октябрьского переворота был отменен введенный Керенским закон о смертной казни для солдат. Когда Ленин узнал об этом, вспоминал Троцкий, он пришел в страшное негодование:
— Вздор. Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?
Его утешали, что отменена смертная казнь только для дезертиров. Все было напрасно. Он настойчиво твердил:
— Ошибка, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия…
Порешили на том, что если нужно, то "лучше всего просто прибегнуть к расстрелу, когда станет ясным, что другого выхода нет". На этом и остановились. Юрист Ульянов-Ленин считал совершенно нормальным, вопреки закону-декрету, расстреливать людей: "Как можно совершить революцию без расстрелов?"