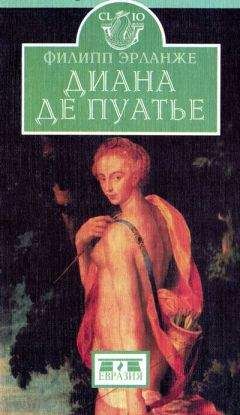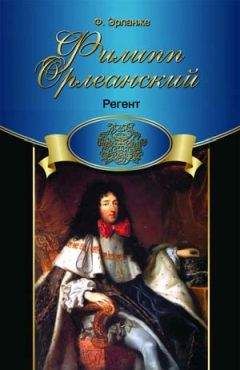«Франция, по сравнению с другими странами, получила наибольшее преимущество… Возврат Кале, захват Меца, Туля и Вердена, признание автономии Лотарингии и Эльзаса обеспечили безопасность наших естественных границ. Все эти успехи вместе наделили государство Валуа такой силой сплоченности, какой даже в наши дни не достигла никакая другая страна. Это качество Франции подверглось испытанию во время религиозных войн. Страну раздирали внутренние противоречия, за ее границами ей изменяли безжалостные сторонники, но ей не угрожала потеря ни одной из ее провинций… Расположение границ государства никем не оспаривалось. Ситуацию гражданской войны никогда не усугубляла одна из тех серьезных внешних угроз, что требует от страны сплочения всего ее народа в единую силу».157
Герцог де Леви Мирпуа, присоединяясь к этой похвале, добавил:
«В борьбе за гегемонию победила Франция, страна, борющаяся за равновесие сил в Европе».
Жан Эритье на это ответил:
«Францию в этой сделке одурачили. В области межгосударственных отношений установилась испанская гегемония. В области внутренней политики предстояли религиозные войны… Современники с полным на то основанием противоречили историкам нашего времени, говоря о том, что Франции неизбежно грозило нашествие со стороны Рейна, о возможности которого наши отцы не вспоминали еще со времен позднего Средневековья… Италия во владении испанцев представляла для Франции самую большую угрозу, так как самый могущественный и опасный враг находился в Мадриде. Вместе с Лю-сьеном Ромье мы говорим о том, что политическая правда была на стороне противников Като-Камбрезийского договора. Воссель был компромиссом, который обеспечивал стране будущее. Като-Камбрези стал отречением, которое принесло его в жертву».158
Лишь один факт не подвергается сомнениям. Соглашение, заключенное между Валуа и Габсбургами против Реформации, обеспечило вплоть до эпохи Людовика XIV католическому королю выгодное положение в Европе и предоставило ему полную свободу действий. За небольшой промежуток времени он создаст угрозу для Константинополя, захватит Португалию, едва не завладеет Англией и расположит свой гарнизон в Париже. Филипп II мог от всей души «поблагодарить Господа всемогущего за этот Священный мир».
«Заключение мира — главным образом дело рук коннетабля», — писал Людовик Гонзаго своему брату, герцогу Мантуи. Никто в этом не сомневался, но не менее верно также и то, по утверждению Люсьена Ромье, что у неистового Нестора «ничего бы не получилось без помощи Дианы де Пуатье».
В течение следующих недель король был в удивительно хорошем настроении и в бодром расположении духа. Франция, вышедшая из войны, также впала в легкую эйфорию. Это было затишьем перед бурей, одной из тех ярких иллюзий, которые судьба с удовольствием дарит человеческим существам, прежде чем толкнуть их в пропасть. Никогда еще столько горя и опасностей не таились под столь блистательным убранством.
В развитии цивилизации наступил кульминационный момент — Французское Возрождение, которое, в некотором роде, по требованию Дианы де Пуатье, прошло под ее знаком.
Рядом с порождениями величественного «коллективного искусства, напитавшегося из глубин народного творчества, как можно назвать архитектуру Средневековья», стали появляться памятники, создатели которых, как и других произведений этого периода, воспевали величие личности человека. Париж преобразился, и другие «привилегированные города», в свою очередь, украсились дворцами, пышными особняками, мавзолеями, убранство которых красноречиво говорило об эволюции умов и показывало противоречивость эпохи.
Над этими гробницами в благочестивом величии преклонили колени молящиеся. А снаружи на каменных лицах лежащих фигур надгробных памятников с безжалостной реалистичностью отпечатались ужас, упадок и отчаяние.
Генриху II досталось счастье, которого был достоин Франциск I, лицезреть во время своего правления целую плеяду великих людей, приравнявших эту эпоху в истории Франции к самым славным векам античности. От Ронсара до Филибера Делорма, от Жана Гужона до Клуэ, от Амбруаза Паре до Клемана Жаннекена разнообразные формы дарования достигли своего совершенства.
Жизнь при дворе, несмотря на распри и трагедии, оставалась такой, какой ее, спустя век, описала госпожа де Лафайет:
«Никогда еще великолепие и обходительность не получали такого развития во Франции, как в последние годы правления Генриха Второго. Этот государь был любезен, хорошо сложен и любвеобилен; несмотря на то, что страсть его к Диане де Пуатье, герцогине де Валентинуа, возникла более двадцати лет тому назад, она не ослабевала, и его поведение все также являлось тому неопровержимым доказательством. Так как ему прекрасно удавались всевозможные физические упражнения, они были одним из основных его занятий. Каждый день устраивались выезды на охоту или игра в лапту, балеты, состязания с кольцами, или другие тому подобные развлечения; повсюду можно было увидеть цвета и вензеля госпожи де Валентинуа; она сама появлялась в нарядах, которые подошли бы ее внучке… Никогда еще при дворе не было стольких прекрасных людей и восхитительно сложенных мужчин».159
Любой невнимательный наблюдатель был бы восхищен триумфом государственности, находящейся на пике «возрождающейся» эпохи, воплощением и символом которой была роскошная Диана де Пуатье. «Любовница его самого (короля) и государства»,160 она обладала авторитетом, который никогда до того не был доступен ни одной из подданных. Она была больше, чем покровительницей для художников, их вдохновительницей, их моделью. Появившись на свет в лоне старого феодализма, она стала единым целым с волей монарха; непримиримая католичка, она превратилась в языческую богиню своего времени.
Ориана и Дама Оленя стали непреходящими образами. Легенда о нетленной юности столь прочно укрепилась в сознании людей, что всякий бы посчитал святотатством предположить существование хотя бы одной морщинки на этом величественном лице.
Репутация сказочной красавицы позволяла ей даже выдерживать противостояние реальной красоте. Мария Стюарт могла покорять сердца, но именно высокая фигура, одетая в черное и белое, притягивала интерес восхищенных иностранцев, собравшихся целой толпой, чтобы поприсутствовать на свадьбе королевских особ. Ведь тогда должно было состояться не только бракосочетание Елизаветы Валуа и Филиппа II, но также заключался союз между герцогом Савойским, триумфатором Сен-Кантена, и второй Маргаритой, «весьма ученой» дочерью Франциска I, которой было уже тридцать шесть лет. Разве великолепие, которым были облечены эти события, не было одновременно тайным подарком на серебряную свадьбу фантастической пары?
* * *
За приготовлениями к празднествам король не забывал о своих весьма набожных решениях. Проповеди, произнесенные во время Великого Поста, возбудили ярость католиков к представителям «секты», и в марте перед церковью Невинно убиенных младенцев развернулись ужасающие сцены. По всей видимости, его подтолкнула на это временная необходимость восстановить порядок.
«Никто не оспаривал право короля на подавление смуты, но католики требовали его осуществления в отношении приверженцев протестантской веры, и наоборот».161
Второго июня 1559 года появился Экуанский эдикт, настоящее объявление войны, после которого «протестантам осталось либо спасаться бегством, либо поднимать восстание». Чтобы применить подобный закон, необходимы были судьи, относительно усердия которых не возникало бы подозрений. Ведь «Парламент, на чье отношение ко всем предложениям влияло желание сохранить независимость от короны, показав себя непримиримым в вопросах веры при либеральном Франциске I, сейчас склонялся к милосердным решениям по мере того, как Генрих II увеличивал количество репрессивных мер».162
Это открытие стало для короля потрясением. Членам Парламента было приказано осуществить в своей среде нечто вроде взаимной цензуры. После нескончаемых споров выяснилось, что сторонники умеренной политики все же одержали верх.
Генрих в ярости сам отправился в Парламент в сопровождении коннетабля и Гизов. Хранитель печатей предложил судьям высказать свое мнение. Но наивный повелитель не увидел ожидаемой покорности. Советники-католики (Сегье, Арле) пылко защищали свободу своего корпуса. Что же касается протестантов, то Анн Дюбур произнес знаменитую фразу:
«Думаете ли вы, что легко осуждать людей, которые даже на костре взывают к Иисусу Христу?»,