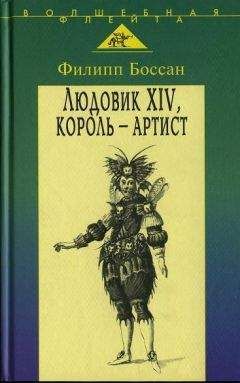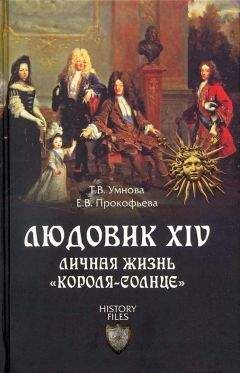И какую конституцию, чуть ли не волшебную: ведь она должна "упрочить революцию"! Так что же, революция завершена? Мэр Байи и все почтенные друзья свободы хотели бы думать именно так. Вашу революцию, как хорошо проваренное желе, остается только разлить в формы конституции и дать ей застыть. Но может ли она в самом деле застыть, в высшей степени сомнительно, более того - несомненно обратное!
Злополучные друзья свободы, упрочивающие революцию! Они должны трудиться, когда их шатер раскинут над пропастью, разделяющей два враждебных мира: верхний мир двора и нижний - санкюлотов, и, побиваемые обоими, мучительно, с опасностью для себя трудиться, делая в буквальном и самом серьезном смысле "невозможное".
Глава пятая. ЧЕТВЕРТОЕ СОСЛОВИЕ
Памфлетисты разевают свою необъятную пасть все шире и шире и уже никогда не захлопнут ее. Наши философы на деле предпочитают отступить по примеру Мармонтеля, "в первый же день удалившегося с отвращением в отставку". Аббат Рейналь, поседевший и затихший в своем марсельском жилище, мало удовлетворен этой работой: последнее литературное действие этого человека - снова бунтарская акция - негодующее "Послание Учредительному собранию", ответом на которое будет: "Переходим к повестке дня". Философ Морелле также недовольно морщит лоб, это 4 августа угрожает его бенефициям всерьез, дело зашло слишком далеко. Поразительно, эти "изможденные фигуры в шерстяных куртках" не удовлетворяются логическими рассуждениями и непобедимым аналитическим методом, подобно нам!
Увы, да, рассуждения и философствования, некогда украшавшие и ценившиеся в салонах, будут теперь переплавлены исключительно в практические предложения, которые поступят в обращение повсюду, на улицах и дорогах, и принесут плоды! Возникает четвертое сословие, оно растет и размножается, неудержимое, непредсказуемое. Появляются все новые и новые типографии, все новые журналы (таким зудом объят мир) - пусть наши три сотни обуздывают и объединяют их, если сумеют! Лустало под крылышком скучно-хвастливого писаки Прюдома издает свой едкий, напыщенный еженедельник "Revolutions de Paris". Язвителен, едок, как терновый спирт или купорос, Марат, Друг Народа[275], потрясенный тем, что Национальное собрание, столь насыщенное аристократами, "не может ничего сделать", кроме как самораспуститься и уступить место другому, лучшему собранию, что представители в Ратуше по преимуществу болтуны и дураки, если не мошенники. Человек этот беден, неопрятен, живет на чердаке; человек, неприятный и наружностью, и внутренними качествами; человек отталкивающий - и вдруг он становится фанатиком, одержимым навязчивой идеей. Жестокая игра случая! Неужели природа, о бедный Марат, жестоко забавляясь, замесила тебя из отбросов и разной негодной глины и, словно мачеха, вышвырнула тебя - олицетворение смятения - в этот смятенный восемнадцатый век? Тебе предназначено дело, которое ты выполнишь. Три сотни призвали и вновь призовут Марата, но вечно он каркает необходимые ответы, вечно он противится им или ускользает от них, и нечем заткнуть ему рот.
Карра, "экс-секретарь одного обезглавленного господаря", а затем кардинала ожерелья[276], также памфлетист, подвизающийся во многих сферах и странах, прилипает к Мерсье[277] из "Табле де Пари" и с пеной у рта добивается издания неких "Анналь патрио-тик". Процветает "Монитор"[278], Барер орошает
слезами страницы пока еще верных газет, не дремлют и Ривароль и Руаю. Одно тянет за собой другое: "Господи, даруй королю благополучие (domine salvum fac regem)", вызывает к жизни вселенский язык; "Друг народа" порождает поддерживающую короля газету "Друг короля". Камиль Демулен назначил себя Генеральным прокурором фонаря (Procureur General de la Lanterne) и отстаивает свои взгляды, не жестокие, но под этим жестоким титулом, издавая свой блестящий еженедельник "Революции Парижа и Брабанта". Блестящий, говорим мы, потому что если в этом густом мраке журналистики с ее тупым хвастовством, сдержанной или разнузданной злобой и проблескивает луч гения, то можно быть уверенным, что это Камиль. Чего бы ни коснулся Камиль своими легкими перстами, все начинает сверкать, играть красками, приобретает неожиданный оттенок благородства на фоне ужасной смуты; то, что вышло из-под его пера, стоит прочесть, о других этого не скажешь. Противоречивый Камиль, как блистаешь ты падшим, мятежным, но все еще божественным светом, как звезда во лбу Люцифера![279] Сын утра, в какие времена и в какую землю низвергнут ты!
Во всем есть нечто хорошее, хотя для "упрочения революции" ничего хорошего и нет. Тысячи пудов этих памфлетов и газет медленно гниют в публичных библиотеках по всей Европе. Выхваченные библиофилами из великой пучины, подобно тому как искатели жемчуга выхватывают раковины, они должны сначала сгнить, и тогда жемчужины Камиля или других будут опознаны и сохранены.
Не убавилось и количество публичных речей, хотя Лафайет и его патрули косо смотрят на это. Как всегда, шумит Пале-Руаяль, еще больше шума в Кафе-де-Фуайе, такая там толпа граждан и гражданок. "Время от времени, - по словам Камиля, - некоторые граждане используют свободу печати в личных целях, так что тот или иной патриот вдруг обнаруживает, что у него пропали часы или носовой платок!" Но в остальном, по мнению Камиля, не может быть более живого образа римского форума. "Патриот выдвигает предложение; если оно находит сторонников, то они заставляют его влезть на стул и говорить. Если ему аплодируют, он блаженствует и печатается, если его освищут, он идет своей дорогой". Так они расхаживают и разглагольствуют. Длинного, косматого маркиза Сент-Юрюга[280], понесшего - и заслуженно - большие потери, считают почтенным человеком и выслушивают. Он не говорит, а ревет, как бык, его голос заглушает все другие голоса и все-таки трогает сердца людей. Этот долговязый маркиз скорее всего не в своем уме, но легкие у него в полном порядке.
Допустим далее, что каждый из 48 округов имеет свой комитет; он, непрерывно заседая, обсуждает вопросы о том, где достать зерно и какой будет конституция, он занят также проверкой и слежкой за теми тремястами человек, которые собрались в Ратуше. Дантон, чей "голос гремит под сводами", заняв пост председателя округа кордельеров, стал своего рода божком патриотизма. Но не надо забывать также "о семнадцати тысячах бедняков, ютящихся на Монмартре", многим из которых суждена голодная смерть, потому что невозможно же прожить на 4 шиллинга; не надо забывать и о собраниях, например, прислуги, которой хозяева отказали от места, о забастовках портных, кожевенников, аптекарей - забастовках, вызванных растущей ценой на хлеб. Собрания забастовщиков происходят большей частью под открытым небом, на них принимаются резолюции. Лафайет и его патрули издали наблюдают за собраниями, не скрывая своей подозрительности.
Несчастные смертные, сколько трудов прилагаете вы, в беспощадной борьбе изничтожая друг друга, чтобы добиться счастья на этой земле, не сознавая того, что нельзя добиться счастья на этом "торжестве денег". Конечно, каждый из трехсот бдительно и зорко наблюдает за действиями черни, и все-таки никто из них не может сравниться со Сципионом-Американцем в подавлении ее волнений. Разумеется, все это ни в коей мере не способствует консолидации революционных сил.
Нет, друзья, эта революция не из тех, которые что-либо могут упрочить. Разве пожары, лихорадки, посевы, химические смеси, люди, события -- все воплощения силы, которая составляет этот чудесный комплекс сил, называемый Вселенной, не продолжают усиливаться, проходя свои естественные фазы и ступени развития, каждая в соответствии с собственными законами; не достигают ли они своей вершины, а затем видимого упадка, наконец, пропадают, исчезают и, как мы называем, умирают? Они развиваются; нет ничего, что бы не развивалось, не росло в присущих ему формах, раз оно получило возможность расти. Отметьте также, что все растет со скоростью, пропорциональной в целом заложенным в нем безумию и нездоровью; медленный, последовательный рост, который, конечно, тоже кончается смертью, - это то, что мы называем здоровьем и здравомыслием.
Санкюлотизм, который поверг Бастилию, который обзавелся пиками и ружьями, а теперь сжигает замки, принимает резолюции, произносит речи под крышами или под открытым небом, пустил, можно сказать, ростки и по законам природы должен расти. Если судить по безумию и нездоровью, присущим как ему самому, так и почве, на которой он взрастает, можно ожидать, что скорость и чудовищность его роста будут чрезвычайны.
Многое, особенно все больное, растет толчками и скачками. Первый большой толчок и скачок санкюлотизма был совершен в день покорения Парижем своего короля - риторическая фигура Байи была слишком печальной реальностью. Король был покорен и отпущен под честное слово на условиях, так сказать, исключительно хорошего поведения, что в данных обстоятельствах, к несчастью, означало отсутствие всякого поведения. Совершенно нетерпимое положение: король поставлен в зависимость от своего хорошего поведения! Увы, разве это не естественно, чтобы все живое стремилось сохранить жизнь? Поэтому поведение Его Величества вскоре станет предосудительным, а следовательно, недалек и второй большой скачок санкюлотизма, а именно взятие короля под стражу.