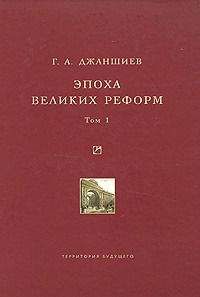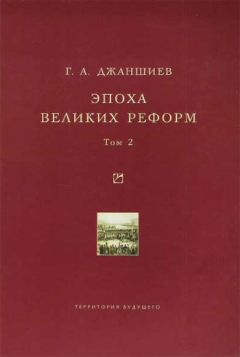Совершенно особое место занимают телесные наказания, практикуемые иногда высшими административными властями в виде экзекуции во время народных волнений или даже в видах предупреждения их. Такие экстраординарные расправы не имеют под собою никакой легальной почвы. Но и с точки целесообразности польза подобных произвольных мер не выдерживает критики. Самый главный аргумент, который приводили защитники телесного наказания, сводился к тому, что оно производит устрашающее действие на народ. Но и этот сомнительный довод мог иметь значение только относительно тягчайших видов телесного наказания – шпицрутенов, кнута и плетей, а никак не относительно розог, которыми трудно терроризовать народ. А если восстановление торговой казни кнутом и плетьми немыслимо в наше время, то не лучше ли отказаться и от розог, употребление коих никогда не может предупредить беспорядки, где бы то ни было?
Нужно думать, что недалеко время, когда исчезнет окончательно это наследие крепостного права, эти последние жалкие остатки телесного наказания, в спасительность которых иные, по старой традиции, еще верят и хотели бы верить. Свыше 30-летний опыт наш собственный или почти вековой иных европейских законодательств ясно свидетельствует, что, вопреки опасению «кпутофилов» консервативного лагеря, пророчивших анархию с отменою этого освещенного божескими и человеческими законами орудия мздовоздаяния, не только не распадается общество, не расшатывается дисциплина и не водворяется анархия, а падает общая преступность и уменьшается зверский характер преступлений. Прожитое Россиею без телесного наказания время служит новым доводом в пользу того, как редко бывают правы заставшие в унаследованных традициях мнительные рутинеры, готовые восстать против всякой гуманной и прогрессивной меры под предлогом преждевременности ее и неприготовленности среды. Истекшее тридцатилетие показывает, что едва ли ошибались те, которые вопреки совету мудрых и искушенных охранителей с юношескою верою в силу добра и добрые инстинкты русского народа, с благородною отвагою дерзнули разглядеть во вчерашнем рабе нравственное обличье и человеческое достоинство и признать его достойным дарованных ему прав и вольностей.
Кто же в самом деле оказался прав? Те ли одичалые «охранители», которые вместе с графом Паниным, привыкшим с гадливым высокомерием относиться к плебеям, утверждали, что русский народ так груб, неразвит и незрел[471], что не может обойтись без плетей и шпицрутенов, или же те, которые высказывали убеждение, что гуманные реформы всегда благовременны[472], так как трудно допустить, чтобы люди были когда-либо приготовлены для дурного и незрелы для хорошего? Кто же был больше прав, – те ли, которые, обращая свой взор только к прошлому и пренебрегая будущим, вместе с графом Паниным уверяли, что отмена телесного наказания даже для женщин[473] не согласна с самобытным «историческим» развитием русского законодательства и преждевременна, или те, которые, не делая себе кумира из позорного исторического наследия, из отвратительного существующего факта – стремились к обновлению жизни при помощи указаний общечеловеческой культуры и гуманности, веря, что одним из могучих средств для поднятия культуры и смягчения нравов служит гуманное и передовое законодательство? История оправдала этих смелых и «легкомысленных» доктринеров-теоретиков, добившихся во имя разума и человечности, во имя «бредней», по выражению великого сатирика, упразднения исторического наследия с его пытками и кнутами!
Об этом историческом факте не лишнее, смею думать, вспомнить в наше время не потому только, чтобы, следуя девизу юриста, воздать suum cuique, но и ради нас самих, ради нашего «пестрого» времени, когда так неожиданно воскресают давно и, казалось, безвозвратно погребенные мертвецы, когда известная «историческая» школа уголовного права настолько эмансипировалась от доктрины, от заветов истории и гуманности, что не только с невероятным даже для нашего времени цинизмом и озверением смакует «интересные» подробности сажания на кол, урезания языка, заливания горла металлом и т. п. прелестей доброго старого времени, но и не прочь бы порекомендовать нашему законодательству оставить ложный стыд и взамен дорогих тюрем завести несколько десятков палачей и несколько сот тысяч кнутов!
И, конечно, не эта «трезвая» школа беспринципного оппортунизма, – возводящая на степень вековечных устоев человеческого общежития «применение уголовных кар к лицам невиновным наравне с виновными», телесного наказания и смертной казни пятого, десятого и т. п. институты эпохи «богомерзкого людодерства», по выражению Крижанича, конечно, говорим, не эта школа, занимающаяся «реабилитацией»[474] былых оригинальных институтов «группового наказания» восстала бы против восстановления телесных наказаний во имя науки, во имя той «сноровитой» науки, которая, готовая именем науки освятить всякий существующий «порядок вещей»[475], как бы он ни был возмутителен, привыкла «подыскивать обстановку для истины, уже утвержденной и официально признанной таковою»[476]. Но пусть бы эти бесчеловечные институты оправдывались примитивными принципами «волчьей этики», так кратко и убедительно изложенной в известном диалоге:
…Да, помнится, что еще в прошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!
– «Помилуй, мне еще и от роду нет году»,
Ягненок говорит. – «Так это был твой брат.
– «Нет братьев у меня»… – Так это кум иль сват,
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду,
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».
– «Ах, я чем виноват?» – «Молчи, устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!»
Так нет же, нужно было «всесторонним» ученым отыскать «обстановку» для такого безнравственного института, как «наказание невиновных вместе с виновными», отыскать для него основания и даже «весьма глубокие основания» – в науке!
Невольно тут вспомнишь слова знаменитого сатирика: «Я понимаю, – писал М. Е. Салтыков в последней пред прекращением или, по его собственному выражению, «запечатанием души» книге Отечественных Записок, – что может такой казус случиться, что, не имея за душою ничего, кроме праха, поневоле приходится им одним торговать; но ведь и с прахом следует обходиться бережно. Прах так прах; но пускай же он будет один и тот же всегда и везде, ибо только тогда он сделается владыкой мира. Отрицайте разум, прогресс, правду, человеческое право на счастье – прекрасно. Называйте все это опасною утопиею, источником заблуждений и потрясений – еще того лучше! Утверждайте, что завтрашнего дня нет, что перспектив не полагается, а есть только то, что торчит под носом. Но держитесь этих отрицаний твердо и не призывайте ни разум, ни человечности и проч. ни в помощь, ни в свидетельство. Совсем не произносите этих слов, так как вы выходите из принципа, который признает их праздными. Не пишите в смысле порицания: такое-то действие противно разуму, ибо, согласно вашей программе, это и есть действие, достойное похвалы[477]».
К счастью для русского народа, «легкомыслие» и «бредни» чистых сердцем, гуманных прогрессистов 60-х гг. сделали невозможным осуществление идеалов «трезвых» жрецов «серьезной науки 8о-х годов»!.. Объяснением «возврата нежности» к розгам служит отчасти замечаемое вообще затмение в общественном сознании, отчасти та крепостническая закваска[478], та рутина, которая, будучи поколеблена перед отменою телесных наказаний, снова взяла силу в последнее время, хотя, казалось бы, свыше тридцатилетний опыт ее должен был бы повлиять на самых отчаянных розголюбов[479].
Какие бы, однако, усилия ни делали «розголюбы» из лагеря крепостников и человеконенавистников для реабилитации «не дорогого и понятного народу» наказания, песенка розог спета; как бы ни лезли вон из кожи благородные защитники в печати телесного наказания, ссылающиеся даже на собственный пример, как лучшее доказательство пользы порки, – полное изгнание их из нашего судебного обихода едва ли заставит долго ждать. Каковы бы ни были случайные аберрации в общественном сознании, – великая реформа 1863 г. нанесла принципу жестоких и позорящих телесных наказаний такой жестокий и непоправимый удар, от которого им никогда не оправиться. Еще недавно был издан, несмотря на кликушеские вопли одичалого публициста, который
В ворота ломится потерянного рая,
Где грезятся ему и розги и рабы —
согласный с гуманным духом закона 17 апреля, новый закон 29 марта 1893 г-> окончательно освободивший ссыльных женщин от телесного наказания.