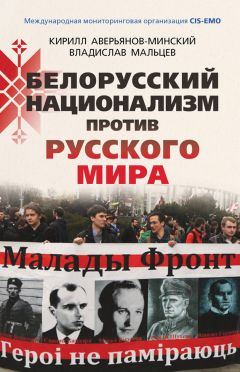«Пишущий должен печататься. Писать ни для кого, ни для чего – это акт холодный, ленивый и неприятный. В виде некоторого промежуточного удовлетворения могут существовать персональные читатели (слушатели). И этот эрзац (жалкий, несмотря на высшую их читательскую квалификацию) вызывает до странного сходную реакцию авторских опасений, честолюбивых волнений и надежд.
Впрочем, при этом едва ли можно хорошо писать. Особенно прозу. Возникает зловещая легкость. Нет железной проверки на нужность, и потому нет критерия оценки. Пусть это талантливо, пусть действует, но, быть может, это еще не достигло форм выражения общественно значимых, быть может, это литература для знакомых <…>» (Гинзбург, 2011: 188–189).
И несколькими годами позже:
...
«Творчество есть род общения. Можно писать для многих и для немногих (даже для трех человек знакомых), для потомства, для воображаемого читателя. Но творить для себя – это сумасшествие» (Гинзбург, 2011: 218).
Но при этом Гинзбург не особенно стремилась познакомить широкий круг со своими записями: чтение «для немногих», нежелание распространять записи в «самиздате», крайне осторожное отношение к публикациям даже в 1980-е годы (Чудаков, 2001). Следовательно, у этих записей иной смысл, позволяющий им существовать, – литературой они становились помимо литературы, литературная механика используется для «претворения опыта».
Ян Левченко, рассуждая о старших формалистах, стремится показать, что и наука, и художественное творчество проистекали из «самопонимания и самопрезентации формалистов как творцов собственной биографии» (Левченко, 2012), определяя их как «поздний романтический проект». В этом смысле позиция Гинзбург противоположна позиции учителей – она стремится не «сотворить биографию», но прожить жизнь – и записные книжки, и вырастающая из них литература служат этой цели, – из которой затем прорастает биография, в смысле, весьма отличном от того, который предстоял учителям.
Гинзбург, как было кем-то замечено, отличалась умом поразительно жестким, совершенно «мужским» – без малейшей попытки скрыться за сентиментальностью, чувством, фразой. Понимание другого и понимание себя – в конечном счете для Гинзбург это был единый процесс, сродни стоической медитации – исключало всякое романтическое опоэтизирование. Безыллюзорность взгляда делала Гинзбург беспощадно зрячей. Иллюзии – наша защитная оболочка, позволяющая нам выносить себя, – Гинзбург целенаправленно стремилась научиться жить без иллюзий, без привычных защит [105] . Эдуард Надточий описывает этот опыт как поиск иных практик сопротивления: в двадцатом, «железном» веке иллюзии не защищают, системе либо покоряются, расплачиваясь собой, либо борются с ней – в борьбе становясь неотличимо похожими на тех, с кем борются. Стоический скепсис Гинзбург, тщательно ею отрефлексированный, позволил ей сохранить себя – в то время, когда каждый оказывался попеременно палачом и жертвой, она сумела не принять участия в этой игре, защитила себя от иллюзий «дела», «истины», любых других высоких слов, позволяющих найти себе оправдание. В «Рассказе о жалости и жестокости», написанном в ленинградскую блокаду, Гинзбург так формулирует обретенный ею способ утверждения ценностей в мире, где каждая абсолютная ценность оказывается лишь способом примириться с невыносимым, где нет возможности добросовестно верить в универсальные смыслы:
...
«В качестве органического скептика Оттер не знал в точности, что такое ценная и нужная жизнь. И для кого нужная. Только на абсолюты опирающееся неколебимое представление об иерархии ценностей могло бы помочь ответить на этот вопрос. Но этого представления у Оттера не было.
А вне этого, по совести говоря, Оттер знал только ощущение каждого человека на свое право на существование и его интуитивно понятное право на это ощущение. […] С помощью каких критериев может скептик установить иерархию всех этих интуиций и непосредственных моральных данностей? Он может только сказать, что жизнь человека нужна ему самому и что в своем праве на существование люди равноправны» (Гинзбург, 2011b: 23).
В этом отрывке Гинзбург формулирует принцип скептического гуманизма, во многом сближающийся с синхронными текстами Камю. И здесь же – решительное разногласие с ним. Во фрагментах, не вошедших в «Вокруг “Записок блокадного человека”», Гинзбург описывает смысл «Постороннего» следующим образом: «Констатация факта: жизнь бессмысленна, а человек хочет жить <…>. На этом кончается ход мысли в романе. В трактате же после этого Камю делает непостижимый прыжок в героическое самоутверждение. <…> К человеку Сизифу со всех сторон сбегаются отрицательные ценности: истина, свобода, гордость, мужество в безнадежной борьбе. Откуда все это берется, если нет ни иерархии, ни выбора? Чем осознанная бессмыслица лучше неосознанной – если не признать высшую ценность в познании?» (Гинзбург, 2011b: 451).
Этическая проблематика Гинзбург вытекает из осознания принадлежности к традиции модерна – индивидуалистической традиции – и в то же время из осознания тупика последней:
...
«…Романтический индивидуализм состоял в том, что безусловно ценная личность присваивала себе безусловные ценности, ей внеположенные, вплоть до божественных. Романтическое отношение субъекта и объекта нарушило уже декадентство конца XIX века. Объективные ценности взяты были под сомнение, но ценность личности еще не оспаривалась. XX век с его непомерными социальными давлениями постепенно отнял у человека переживание абсолютной самоценности [выд. мной. – А. Г.]» (Гинзбург, 2011: 338).
Индивидуализм XIX века опирался на несомненность личности – что бы ни происходило вокруг, ценность личности не подвергалась сомнению – равно как не подвергается она в конечном счете сомнению и у Камю. Он отвергает ее сознательно, но весь ход его рассуждений тем не менее опирается на эту несомненность – его проблематика в том, как, не имея никаких рациональных доводов, тем не менее найти обоснование личности, ее суверенности, даже если это будет обоснование через абсурд существования.
Напротив, Гинзбург принимает ситуацию со всей беспощадной серьезностью – поскольку опыт ее существования не оставляет ей тех надежд, за которые может уцепиться Камю, она выкинута из гуманистической традиции не только рационально (осознанием ее интеллектуальной ущербности), но и самим существованием. Как и Камю, она убеждена, что «логика поведением не управляет (логически мыслящие от других отличаются пониманием нелогичности своих поступков). Поведением управляют устремления и интересы, превращающие человека в устройство, приспособленное – биологически и социально – для жизни; закономерность, из которой он вырывается только вследствие патологического развала или чрезмерности нагрузки (последнее редко, человек выдержать может много, вынослив)» (Гинзбург, 2011б: 446). Однако эти устремления и интересы, согласно Гинзбург, и есть то, чем держится этика – и чем она разрушается. В записях 1970—1980-х годов, размышляя над Ларошфуко, она отмечает: «В духе XVII века он оперирует неподвижными категориями добродетелей и пороков, но его динамическое понимание человека и страстей человека, в сущности, стирает эти рубрики. Ларошфуко отрицает и разлагает моральные понятия, которыми пользуется. <…>.Система Ларошфуко может объяснить не только низкие, но и высокие поступки. Она допускает моральную иерархию. <…> В какой-то мере он рассматривает уже поведение человека как непрестанную идеологизацию влечений (интересов). Это выгодно отличает его от плоской мизантропии, которая ничего не понимает в человеке, потому что видит в нем одну шкурность и не видит сублимацию шкурности. На одной шкурности нельзя было бы создать ничего похожего на человеческое общество» (Гинзбург, 2011:310, записи 1970—1980-х годов).
Источником ценностей по Гинзбург может быть только социальное – проблема, однако, в том, что социальное перестало быть таковым, общество больше не выступает той «плотной средой», по отношению к которой возможно самоопределение индивида: «Свидетели – это среда, апперципирующая поступки человека, оценивающая его жизнь согласно определенным этически-эстетиче-ским нормам. Где есть среда, там в каждой личности действует мощный закон сохранения принятого нравственного уровня» ( Гинзбург, 2011: 193). Осмысляя опыт своего поколения, Гинзбург пишет: «Молодость этого поколения прошла при свидетелях. <…> Без свидетелей форма распадалась. Не человек отказывался от соблазнов мира сего, а человеку отказывали от места. Отсюда долгие, дорогостоящие старания – жить как люди живут. Не получалось.