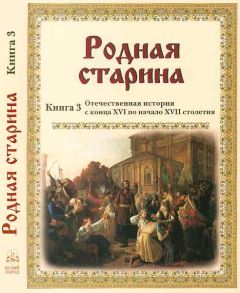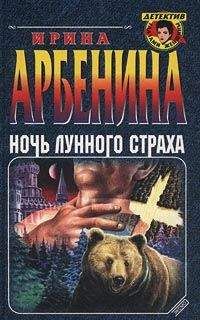В мае 1796 года Александр признавался своему другу Кочубею: «Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места… Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом… В наших делах царит неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон, все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления? Это выше сил человека не только одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно…»
Он легко подпадает под влияние чужой воли и своих эмоций; в его уме «создавалась тяжелая коллизия между его идеями-эмоциями и представлениями об укоренившихся злоупотреблениях».
Александра окружают пылкие молодые люди, воспитанные на тех же идеях равенства и уважения личности. Они мечтают о создании общества, основанного на законах, в котором нет «простора для прихотей и самовластья». Иногда в шутку Александр называет их «комитетом общественного спасения».
Павел Александрович Строганов, единственный сын богатейшего вельможи, был воспитан членом Конвента, известным математиком якобинцем Роммом. Путешествуя по Европе с семнадцатилетним воспитанником, Ромм вступает в якобинский клуб, а его питомец, следуя примеру наставника, становится библиотекарем этого клуба и участвует в его заседаниях. Став членом Конвента, а затем и его председателем, Ромм гибнет на эшафоте, а юный вольнодумец по требованию императрицы возвращается в Россию и ссылается в одну из деревень.
Вернувшись из ссылки, Строганов через Чарторыйского знакомится с наследником, которого считает человеком с благими намерениями, но со слабым характером. Сам Строганов, заимствовавший от наставника «замечательную точность мысли и привычку с полной определенностью формулировать свои настроения и взгляды», отличается наиболее стойкими и последовательными демократическими взглядами среди молодых сотрудников Александра. Николай Николаевич Новосильцев, его двоюродный брат, «обладал тонким умом, имел большие литературные способности и излагал свои мысли блестящим слогом». Он был старше Строганова и значительно старше Александра, а «поэтому менее пылок и более осторожен».
Граф Виктор Павлович Кочубей — образованнейший человек того времени. Долгое время он прожил в Англии, где получил блестящее образование; благодаря своим способностям в 24 года Кочубей назначается послом в Турцию. Сторонник внутренних преобразований, уже будучи вице-канцлером, получает отставку и уезжает за границу.
Князь Адам Чарторыйский был «человеком выдающегося ума и дарований». Пылкий патриот своей родины, он увлекается идеями французской революции, но его помыслы направлены на создание независимой и сильной Польши. «Тонкий политик, тонкий наблюдатель», сумевший лучше других понять характер Александра, Чарторыйский не скрывает от него своих намерений. В 1802 году назначенный товарищем министра иностранных дел, он прямо заявил государю: «Как поляк и польский патриот в случае столкновения интересов русских и польских, я всегда буду на стороне последних».
Александр и его пылкие друзья полны планов по преобразованию России, но им не суждено было сбыться — на их пути встали трагические события 11 марта. Изобилие чувства и воображения при недостаточном развитии воли приводят Александра к «состоянию нравственного уныния».
«И по мере того, как проходила молодость и уносила с собой одну иллюзию за другой, все труднее и труднее становилось выносить хроническую боль застарелой раны… Она положила свою печать на характер и душевный настрой императора. И хотя идейные впечатления, заложенные Лагарпом, не исчезли из его души, влияние событий 11 марта оказалось сильнее идейных мечтаний юности… В течение всего царствования в душе Александра происходила борьба этих влияний: идейных впечатлений воспитания и юности и впечатлений, которые породила в нем роковая ночь 11 марта. В этой борьбе и заключается трагизм судьбы Александра: здесь лежит и ключ к разгадке его личности, к объяснению многих противоречий в жизни и деятельности этого императора».
Более шести месяцев потребовалось заговорщикам, чтобы получить согласие Александра на регентство. «Великий князь, подвергавшийся оскорблениям отца и постоянно, подобно прочим, находившийся в страхе, сначала ничего и слышать не хотел ни о чем подобном и отвечал отрицательно, хотя и не столь решительно, чтобы раз и навсегда прекратить разговоры на эту тему; и так как Александр весьма скоро сознал необходимость перемены, то можно было рассчитывать и на его окончательное согласие», — писал Т. Бернгарди.
«Он знал и не хотел знать», — скажет Пален. «Я обязан в интересах правды сказать, — говорил он Ланжерону, — что великий князь Александр не соглашался ни на что, не потребовав от меня предварительно клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца; я дал ему слово… Я обнадежил его намерения, хотя был убежден, что они не исполнятся. Я прекрасно знал, что надо завершить революцию или уже совсем не затевать ее, и что если жизнь Павла не будет прекращена, то двери его темницы скоро откроются, произойдет страшнейшая реакция и кровь невинных, как и кровь виновных, вскоре обагрит и столицу и губернию»… Потом Пален добавил, что, «когда великий князь потребовал от него клятвенного обещания, что не станут покушаться на жизнь его отца, он дал ему слово, но не был настолько лишен смысла, чтобы внутренно взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную». Оказывается, он клялся только на словах, оставаясь свободным от своих обязательств!
— Знал ли ты? — на следующий день спросила его мать.
— Нет! — ответил он.
Бросившись к шведскому послу, он воскликнул:
— Я несчастнейший человек на земле!
— Вы должны им быть, — последовал ответ.
«Александр не имел мужества сам участвовать в заговоре и тем спасти отца», — скажет немецкий историк Т. Шиманн.
В первые дни Александр был так потрясен случившимся, что многие опасались за его рассудок. «Целыми часами оставался он в безмолвии и одиночестве, с блуждающим взором, устремленным в пространство; в таком состоянии находился в течение многих дней, не допуская к себе почти никого», — пишет Чарторыйский. В ответ на его призывы «сохранять бодрость и о лежащих на нем обязанностях, Александр с горечью отвечал:
— Нет, все, о чем вы говорите, для меня невозможно, я должен страдать, ибо ничто не в силах уврачевать мои душевные муки».
«Ужасное сознание участия его в замыслах, имевших такой неожиданный для него, терзательный исход, не изгладилось из его памяти и совести до конца его жизни, не могло быть заглушено ни громом славы, ни рукоплесканиями Европы своему освободителю… Смерть Павла отравила всю жизнь Александра: тень отца, в смерти которого он был невиновен, преследовала его повсюду. Малейший намек на нее выводил его из себя. За такой намек Наполеон поплатился ему троном и жизнью… Ни труды государственные, ни военные подвиги, ни самая блистательная слава не могли изгладить в памяти Александра воспоминаний о 12 марта 1801 года», — писал Н. Греч.
Глава пятнадцатая
Фон Пален действует
Талейран, Буше, Бернадот в одном лице.
А. Сорель
Получив согласие наследника, Пален начинает действовать.
1 ноября 1800 года вышел указ, в котором говорилось: «Всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключенным, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, паки вступать в оную с тем, чтобы таковые явились в Санкт-Петербург для личного представления императору». В этот же день царская милость была распространена и на статских чиновников. В столицу потянулись толпы обиженных и уволенных — весть об указе быстро распространилась в дальних краях. «Можно представить, — писал современник, — какая явилась толпа этих несчастных. Первые были приняты на службу без разбора, но вскоре число их возросло до такой степени, что Павел не знал, что с ними делать. Тем, кому не нашлось места, оседали в столице, надеясь на лучшие времена, или возвращались назад, обиженные вдвойне, потеряв немалые суммы на проезд».