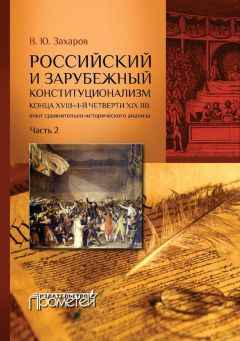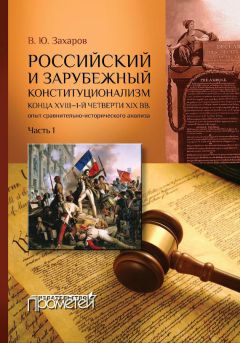По своей композиции книга «Стефанит и Ихнилат»,[404] как и «Калила и Димна», представляла собой «рамочное», или «обрамленное», повествование, где в состав общей «рамки» входили отдельные главы (соответствующие книгам «Панчатантры»), а в их состав – отдельные новеллы-басни, рассказываемые действующими лицами (внутрь этих рассказов иногда тоже входили вставные притчи). Основная «рамка» индийского оригинала – разговор царя с мудрецом – уже в арабской и греческой версии потеряла значение; она играла чисто формальную роль (как своеобразный «зачин» каждой главы). Важнейшую роль приобрела зато тема первых двух глав – история льва, быка (тельца) и двух зверей, по именам которых был назван весь цикл. В первой главе описывалось лесное царство, где правит царь Лев, который «вознослив и горд и скуден мудростью»; он окружен другими животными, но два «мудроумных зверя» (в арабско-греческой версии – шакалы, но славянская версия, видимо, не знает таких животных и именует их просто «зверями») Стефанит и Ихнилат находятся вдали от царского двора. Между тем в лесу появляется неизвестное существо, страшно «рыкающее»; трусливый Лев перепуган, но старается скрыть свой страх. Ихнилат является ко Льву, осторожно выведывает причины «сумнения» Льва и отправляется на поиски «рыкающего» зверя. Зверь оказывается Тельцом, брошенным своими хозяевами и не имеющим никаких враждебных намерений, и Ихнилат приводит его ко Льву. Обрадованный Лев приближает к себе Тельца; Ихнилат снова оказывается в стороне.
В отчаянии он решается на интригу – ссорит Льва с Тельцом, рассказывая каждому из них о коварных замыслах другого. Лев и Телец встречаются; оба они боятся друг друга и ожидают нападения; Лев убивает Тельца. Вторая глава (отсутствовавшая в «Панчатантре» и добавленная в арабской версии) рассказывает о суде над Ихнилатом (Димной). Внешне глава повествует о наказании коварного зверя, но подлинный смысл ее – не в осуждении Ихнилата, а в его остроумной самозащите, основанной на том, что остальные персонажи, начиная со Льва, убившего своего фаворита по пустому подозрению, ничуть не лучше подсудимого. Никто из приближенных Льва не может уличить Ихнилата, и казнь его оказывается не торжеством правосудия, а следствием интриг матери Льва.
Рамочный рассказ первых глав «Стефанита и Ихнилата» – восточное сказание о хитром звере, одурачившем глупого монарха Льва – многими чертами напоминало животный эпос, популярный на Западе – «Роман о Лисе» (Ренаре или Рейнеке). Правда, в «Стефаните и Ихнилате» суд над хитрым зверем оканчивался осуждением Ихнилата, между тем как его западный двойник Ренар добивался оправдания, но в обоих случаях исход дела определялся не справедливым разбором его, а интригами придворных.
Многие отдельные новеллы-басни «Стефанита и Ихнилата» по своей основной коллизии совпадали с сюжетом первых двух глав: там также речь шла о столкновениях между тремя типами зверей – хищным «кровоядцем», простаком – «травоядцем» и хитрым зверем (в одной из басен – зайцем), способным одурачить сильного.
«Книжица малая Ихнилат» (как называли ее на Руси) оказывалась своеобразным «романом без героя» в русской письменности XV в. Стефанит не участвовал в коварных поступках Ихнилата и отговаривал его от них, но он ценил мудрость своего друга и был ему искренне предан. В греко-славянской версии повести (в отличие от арабской) жизнь Стефанита завершается трагически: потрясенный заточением Ихнилата, он еще до казни друга кончает самоубийством: «шед напои себя ядом и издоше». Узнав о смерти Стефанита, Ихнилат горько плачет: «Не подобает ми, рече, уже живот днесь, зане такова друга верна и любовна лишихся!» (с. 30–31). Эта черта еще более усложняет образ Ихнилата: он оказывается не чуждым и благородных эмоций.
Построение основного рассказа «Стефанита и Ихнилата», как и построение большинства басен цикла, оказывалось, таким образом, совсем иным, чем построение «Александрии». Если в «Александрии» развязка романа – трагическая смерть героя – была органически связана с основной идеей бренности человеческого существования, то в «Стефаните и Ихнилате» гибель Ихнилата не была, как понимал проницательный читатель, наказанием порока и торжеством справедливости. Как и в «Соломоне и Китоврасе», развязка здесь не имела оценочного значения и не заключала в себе определенной «морали». Анализ сюжетного построения «Соломона и Китовраса», «Стефанита и Ихнилата» и сходных сюжетов, возникающих с конца XV в. в оригинальной русской литературе, позволяет поэтому поставить вопрос о двух типах сюжетного повествования: целенаправленном (телеологическом) и многозначном. Первый тип сюжета характерен для большинства древнерусских повестей – житийных, воинских, исторических, второй – для некоторых памятников, появляющихся в русской письменности лишь в рассматриваемый период и достигающих большого распространения два столетия спустя – в XVII в.[405]
Рядом с переводной повестью, усвоенной национальной рукописной традицией в XV в., на Руси создаются в этот период и оригинальные повести, весьма разнообразные по своему содержанию и характеру. Среди них были и рассказы о реальных и относительно недавних исторических событиях (близкие к уже упомянутому «Сказанию о Мамаевом побоище»), и легендарно-исторические повествования, и произведения, которые с достаточным основанием могут считаться первыми памятниками русской беллетристики.
Повесть о Царьграде. «Повесть о Царьграде» была посвящена одному из важнейших событий мировой истории XV в. – завоеванию турками византийской столицы (единственной части Византийской империи, остававшейся независимой) в 1453 г. Автор повести (в ее отдельном, первоначальном варианте) именовал себя «многогрешным и беззаконным Нестором-Искандером» и утверждал, что он «измлада» был захвачен турками, обращен в ислам и соединял в своем рассказе собственные наблюдения (из лагеря победителей) с рассказами жителей Царьграда. Трудно решить, насколько эти сведения соответствуют истине, однако принадлежность повести второй половине XV – началу XVI в. не вызывает сомнений.[406]
Стилистика «Повести о Царьграде» весьма противоречива: с одной стороны, мы встречаемся здесь с многочисленными стилистическими трафаретами, типичными для древнерусских «воинских повестей» («сеча велика и ужасна», кровь течет «аки потоком сильным», один грек «бьяшесь с тысящею, а два с тьмою» и т. д.), с другой стороны, для повести характерно редкое для средневековой литературы умение использовать сюжетные перипетии для создания непрерывной и все нарастающей напряженности повествования.
Для «Повести о Царьграде» характерна динамичность и острота повествования. Автор не описывает всю историю осады города, а рисует одну за другой сцены его обороны.[407] Важную роль в рассказе играет «фряг Зустунея» (итальянец Джустиниани) со своими воинами – «600 храбрых», единственный, кто откликнулся на просьбу цесаря (императора Константина XIII) о помощи. Зустунея берет на себя сооружение городских укреплений; турецкая артиллерия проламывает городские стены; Зустунея вновь их восстанавливает. Турки направляют на город «великую пушку»; Зустунея разрушает ее своей пушкой. Турки подвозят к городу туры – стенобитные башни, но греки взрывают «сосуды зелейные» (мины), и осаждающие взлетают на воздух. Туркам удается все-таки разрушить большую часть городской стены, и рукопашные бои завязываются в самом городе. В этих сражениях вместе с Зустунеей выступает сам «цесарь», который один, «имея меч в руце», дважды изгоняет неприятелей из города.
Стойкость защитников побуждает султана несколько раз думать об отступлении. Но мрачные приметы сулят гибель городу: из окон храма Святой Софии исходит пламя, и патриарх объясняет, что это означает отшествие святого духа от Царьграда. Накануне последнего дня осады над городом сгущается «тьма великая» и падает кровавый дождь, знаменующий гибель Царьграда. В последний день битвы Зустунеи уже нет (он поражен шальным ядром), но цесарь, несмотря на уговоры приближенных, бросается в последний бой на улицах города и погибает под мечами турок. Так сбывается древнее предсказание о Царьграде: «Констянтином создася и паки Костянтином скончася». Завершается повесть описанием торжественного вступления султана в город и пророчеством о будущем освобождении Царьграда «русым родом».
Если в основу «Повести о Царьграде» был положен реальный исторический материал, умело обработанный автором, то ряд других русских повестей представлял собой причудливое соединение исторического (или мнимоисторического) материала с мифом и традиционными фольклорными сюжетами.
Слово о Вавилоне. В «Слове (или Сказании) о Вавилоне»[408] легендарное повествование имело и определенный публицистический смысл; впоследствии «Слово» вошло в обширный цикл публицистического характера (обосновывавший права русских князей на византийские императорские регалии), и уже в своем первоначальном виде оно имело черты церковно-публицистического памятника. Но вместе с тем это была и повесть с острым сюжетом и рядом перипетий, делавших изображаемое занимательным. Уже с первых строк автор стремился заинтересовать читателя. Он рассказывал о том, как царь Левкий-Василий послал в Вавилон за «знамениями», принадлежавшими трем святым отрокам, сидевшим в «пещи огненной». Сначала царь намеревался взять посланцев из «сурского» (сирийского) рода. Побуждаемые неизвестными еще читателю соображениями, посланцы отказывались идти в таком составе («Они же реша: Неподобно нам тамо ити…») и просили послать непременно трех человек, владеющих тремя разными языками («… посли из Грек гречина, из Обез обяжанина, из Руси русина… И посла, яко хотяхут», с. 85). Загадка эта, близкая сказочным зачинам, находит объяснение не сразу, а только после того, когда три путешественника добираются до Вавилона и оказываются перед кипарисовой лестницей, ведущей через змия, лежащего вокруг Вавилона, как огромный городской вал. Здесь они находят подпись на трех языках: по-гречески, по-«обезскы» и по-русски. Этой подписи отведена в повести важнейшая сюжетообразующая роль. Текст подписи составлен необыкновенно искусно: она представляет собой одно предложение, первая часть которого написана по-гречески («которого человека бог принесет к лествице сей»), вторая – по-«обезскы» («да лезет чрез змея без боязни»), третья – по-русски («да идет с лествице чрез палаты до часовнице», с. 85); каждая часть фразы не может быть понята без двух других; каждый из представителей трех христианских стран – необходимый участник путешествия. Используя излюбленный сказочный прием – гиперболу, автор создает картину города, «палат» которого не видно сквозь дремучие поросли: «И приидоша тамо и не видеша града: обросл бо бяше былием, яко не видити полаты» (с. 85). Обычная сказочная тропинка – «путец», протоптанный неким «малым зверем», – единственное, что указывает, как добраться до мертвого города.