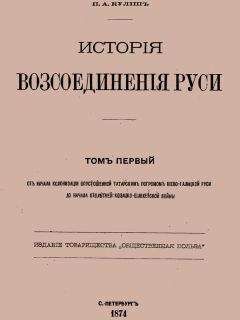В изображаемый мною момент, силу русского гения, дикую силу показал на поляках разбойник русин, которого стратегическим, организаторским и политическим способностям пострадавшие от них удивляются больше, нежели мы, восторжествовавшие над ними. Поляки должны дивиться даже субординации и единодушию, которые наш Хмель умел поддерживать в толпе сообщников своего бунта, и которые для них ни в военное, ни в мирное время не были возможны. Они должны всего больше дивиться тому, что этот могучий в своих злодеяниях дух, потеряв разом все, что создал титанически в короткое время, встал из своего падения еще более для них опасным, нежели был в моменты величайших успехов своих, тогда как они, пав с высоты своего политического величия, остались навсегда притчею во языцех и покиванием главы в людех.
Два хана, казацкий и татарский, выставили против панов поляко-руссов 300.000 войска. Громадный табор свой расположили они на взгорье, поместивши в нем оказаченных мужиков и гарматы. Левое крыло казако-татарского полчища находилось под командою султан-Амурата, одного из ханских братьев, лучшего из татарских полководцев. Он уже дал себя знать панам под Збаражем и Зборовым, и если Тогай-бей был для них татарином-Патроклом, то султану-Амурату надобно дать имя татарина-Ахилла. Правым крылом командовал змей горынич, дивное доныне для поляков чудо-юдо, Зиновий Богдан Хмельницкий, единовладник и самодержец казацкий, князь украинский, страж Порты Оттоманской. Одна лапа у змея горынича была казацкая, другая татарская. Одно смертоносное крыло его изображали собою подкрепления турецкие, правоверные, другое — «и верующие и неверующие в Бога» головорезы, поддерживаемые летучими соправителями ханскими, султан-калгою и султан-нуреддином. Ядовитым зевом и зубами кровожадного чудовища были губительные чаты гарцовников, сверкающие яркими нарядами и блестящим оружием, а подобие ненасытного чрева и чешуйчатого хвоста представлял далеко тянувшийся позади табор, рыгающий из себя огонь, дым, чугун и свинец... Центра в этой азиатской армии не было, потому что она, в общем начертании, имела фигуру священного у магометан знака — полумесяца, которого рога, загибаясь на пространстве от Инда до Гибралтара, долженствовали все человечество, в виде борющихся наций, истребить, или же покорить господству правоверных.
В 10 часов утра иезуитская Европа и чужеядная Азия придвинулись немного одна к другой, как бы всматриваясь друг в друга и поражаясь взаимным безобразием. Паны остановились у последнего своего шанца. Орда начала свой обычный татарский танец; казаки, по своему обычаю, закрутили веремія. Но выезжать и участвовать в той и другой игре на жизнь и на смерть было запрещено в панском войске под смертною казнью. Оба стражника, коронный и обозный, стояли впереди войска, каждый с своею командой, которые отпугивали наездников и не давали смельчакам выезжать на боевое состязание.
Когда таким образом два громадные войска стояли одно против другого и каждое ожидало атаки со стороны неприятеля, спустился хан со взгорья к самым передним рядам Орды своей, осмотрел в зрительную трубку панские силы и сказал сопровождавшим его казацким полковникам: «Ну что? проспался уже ваш Хмель? Он обманывал меня нелепыми баснями, что польское войско слабо и молодо. Ступайте к нему, пускай идет сперва сам выбирать мед у этих пчел, да пускай прогонит прочь такое множество жал».
Об известном читателю зазыве татар на добычу и о сарказме Ислам-Гирея можно сказать с Итальянцами: si non e vero, е ben trovato [45]. Но старый Хмель наш действительно попал в такое положение, что и шесть десятков его гармат, и десятки тысяч казацких самопалов, мушкетов, пищалей оказывались бессильными выкурить польских пчел из указанного Чернецким становища для пасеки. Если хан, воин ума посредственного, смекнул так или иначе делом, то наш гениальный сочинитель стольких разбойничьих походов должен был предчувствовать результат великого боя.
Вся его надежда была на татар, а татары лизали свои раны с собачьим визгом. Созвал Хмель старшину на совет, как быть, — он, в намерения которого не проникали «ни чуры казацкие, ни мужи громадские», — он, который никогда не затруднялся вопросом: как вокруг ляхов закрутити веремія? По всей вероятности, Хмельницкий, зная о выраженной ханом готовности войти переговоры с королем, опасался вновь очутиться между двух сил, как под Зборовым. Но того, что вскоре произошло с Крымским Добродием, не мог он допустить в потомке великого завоевателя Чингиса.
Блестящий панский отряд, озиравший панское войско, обратил на себя внимание тех опытных рыцарей, у которых Ян Казимир находился под командой. Позвали шляхтича Отвиновского, долго жившего в Крыму и хорошо знавшего татарские обычаи; дали ему посмотреть в телескоп, и спросили: что значил бы этот отряд на левом татарском крыле? Отвиновский тотчас заметил три бунчука и показал хорошо, где стоит хан. Туда велели пушкарю нацелить пушку. Выстрел был меток. Ядро сорвало бунчужного, и хан, раненный в ногу, убрался поскорее из рекогносцировки. Такова была первая версия лагерной молвы; после узнали, что хана ядро не тронуло, но убило нескольких мурз.
Оба войска стояли бездейственно до трех часов пополудни. Пушки прогнали гарцовников с поля. Король отправил к хану парламентера с вызовом на битву, но не получил никакого ответа. Паны совещались уже о том, чтоб отложить битву до утра, а король едва ли не с тем и звал хана на бой, чтоб навести его на мысль о переторжке, как прискакал от Вишневецкого бидговский староста, Денгоф, с настоятельной просьбой не откладывать битвы. Король принял гонца за счастливое предзнаменование, сделал на воздухе крест и повелел Вишневецкому начинать.
Затрубили трубы, загудели бубны. Из левого крыла выскочило в поле 18 хоругвей в трех эскадронах. (Я следую повести польской во всем, что касается польской национальной славы, равно как и бесславия). Впереди хоругвей летел ненавистный и страшный казакам князь Ярема с обнаженной саблею, без панциря, без шапки. Его боевому вдохновению и быстрому движению левого фланга приписывали многие всю славу дня. В помощь наступающим поднялся вихрь, и ударил песком в глаза хмельничанам, а солнечные лучи помогали песку. Но казаки бросились навстречу ляхам стремительно всею массою конницы и наступили табором. Они опередили султанских татар, силистрийских турок, и первые приняли панский удар. В поддержку Вишневецкому, ринулась в битву шляхта воеводств Краковского, Сендомирского, Лэнчицкого и других. По почину пламенного русича, поляки «позвонили в дедовскую славу» не хуже отступников родной национальности. «Весь этот фланг» (пишет польский Самовидец) «вскоре потерялся в толпе неприятелей, и долго не было видно начинателей боя, только слышен был гул от пушечной и ружейной пальбы. Наши полагали, что никто из них не возвратится. Оказалось, однакож, что атака увенчалась успехом. Стремительным напором они заставили податься все казацкое войско и разорвали было (si е vero) табор, хотя при этом и сами понесли чувствительные потери.
В помощь казакам пришли татары с левого фланга, и тогда ряды наши, будучи не в силах удержать напора слишком численного неприятеля, стали ослабевать и отступать к редутам. Но тут они оправились, и возобновили нападение столь успешно, что неприятель, побежденный нашею решимостью, должен был наконец податься назад. Казаки отступили в свой табор, — хотя он в начале и был разорван, но они успели его восстановить, — Орда же удалилась на близлежащую возвышенность».
Между тем иезуиты научили короля ездить по рядам и заохочивать войско к бою за веру, за поруганные святилища, за «божеское право», неважно, что одни из его слушателей исповедовали «веру Хмельницкого», последователя «Наливайковой секты», а другие истребляли даже своих единоверцев pod prеtextеm wiary ruskiej, следовательво шли в бой, как неверные.
Теперь коронным канцлером был бискуп. Окруженный духовенством, именующим национальную веру туземцев схизмою, он велел поднять высоко над валами польский кршиж с польским Иезусом, истребляемый всюду казаками, и всего прежде в могилинском Заднеприи. Польского короля — иезуита и кардинала окружало много лиц, подобных Адаму Киселю, а в рядах его воинов наверное было больше православных, полуправославных и вовсе неправославных русичей, нежели коренных полонусов, и все это поклонилось до земли под католический гимн, прося польского Иезуса помочь им против тех, которые идут на брань под знаменем русского Иисуса и, увы! Магомета.
Просимая помощь естественно делала их обязанными помощнику: этим способом они исключали себя из состава родной нации. Ни паны, ни казаки, ни польские ксендзы, ни русские попы не предусматривали такого разделения польской Руси на ся. Но ксендзовская и поповская работа над религиозной совестью наших предков увенчалась в известной мере горестным успехом. Попы удержали за собой одну часть нашего древнего займища, а ксендзы оторвали на свой пай другую. Но поклонники папы вместе с землей захватили под свою власть и образованную часть малорусского народа, захватили почти все высшее сословие наше. В этом смысле Хмельнитчина, будучи прямым освобождением черни от панской власти, была, вместе с тем, косвенною причиною крещения лучшей части малорусских людей в папизм и в польщизну. Чего не могли сделать Кисели, Древинские, Могилы, Косы, Тризны, то сделал Хмель с Перебийносами, Нечаями, Морозенками, Джеджалами. «Национальные герои» наших казакоманов привели Малороссию к новому крещению.