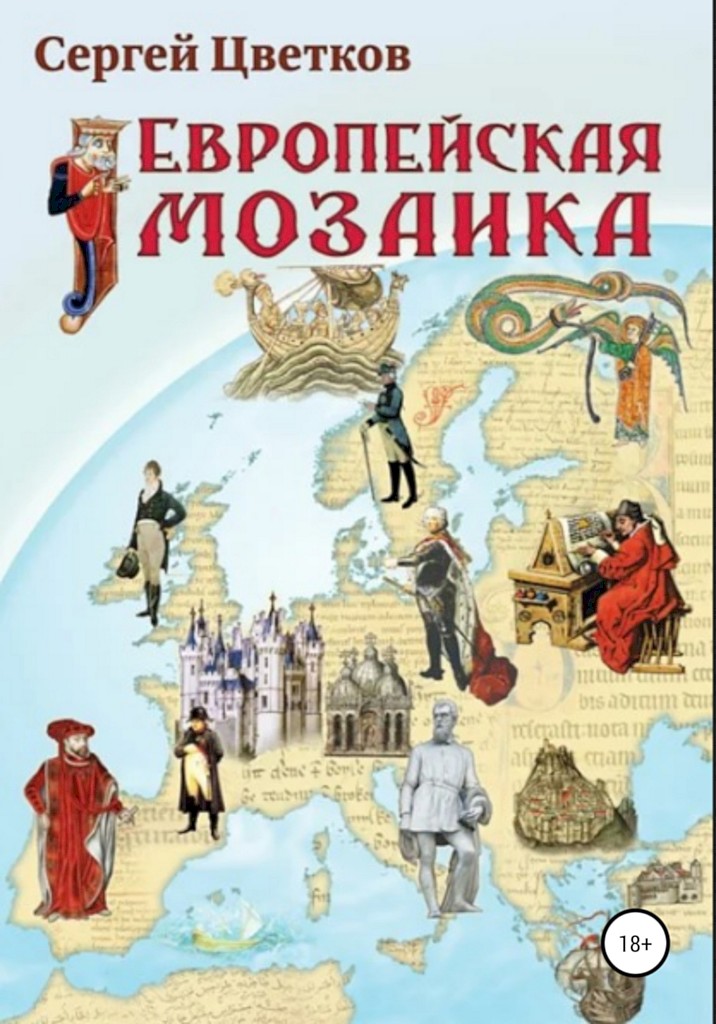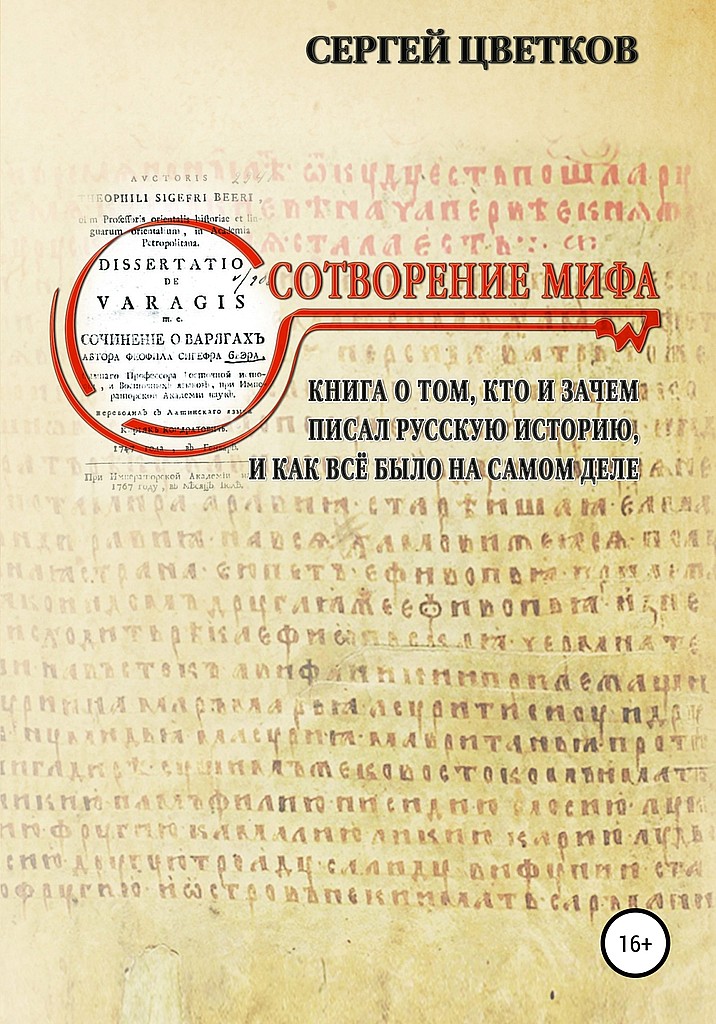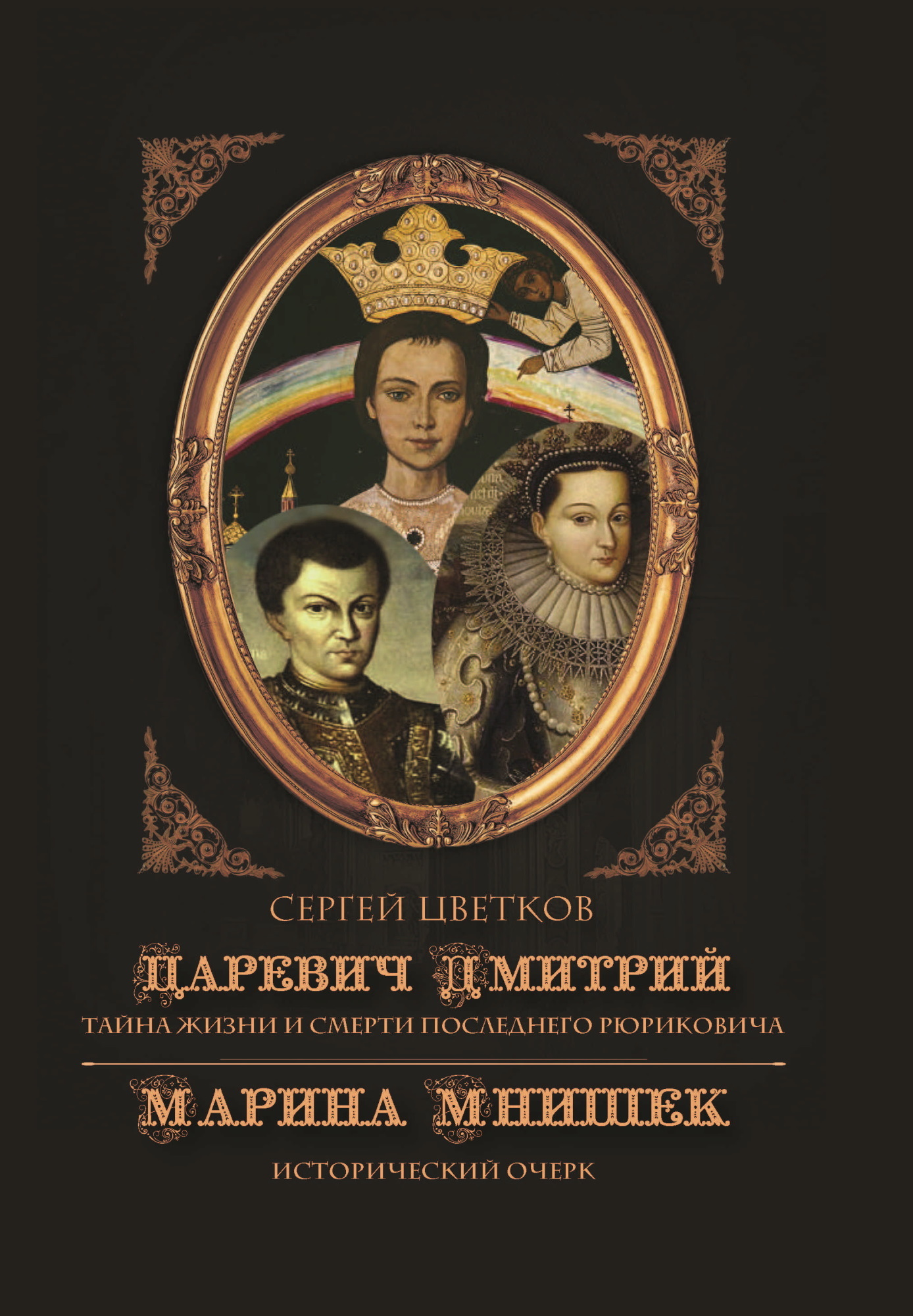может дать и представления».
Поразительно: как Наполеон и Тьер могли полтора-два столетия тому назад говорить о русско-американской войне за господство над миром, когда ещё было трудно даже себе представить, где и как подобная война могла бы вестись?
Но, возражает М. Алданов, позволительно подойти к вопросу и по-иному: «Стоит себе на мгновение представить „конкретно“ русского мужика, русского рабочего, рядового русского образованного человека: это они-то вечно думали и думают о завоевании мира! Это их-то гонит „юношеская энергия“ на Кале, на Константинополь, на Соединённые Штаты! И тотчас „социологическое обоснование“ пророчества начинает казаться идиотским. Такой же мысленный опыт, с такими же выводами может, наверное, проделать и американский писатель о своих соотечественниках.
А кроме того, люди, восторгающиеся подобными пророчествами, не замечают оптического обмана. Сходные предсказания делались не только о России и Америке, по и о других, уж никак не „молодых“, но могущественных державах. Так, например, „историческими“ и „наследственными“ врагами Франции, будто бы всегда стремившейся к мировому господству, были последовательно Англия, Испания, империя Габсбургов, опять Англия, затем Россия и наконец Германия. Всё это старательно обосновывалось философами, иногда знаменитыми. Бумага терпела, она, бедная, всё терпит».
О господах и рабах
В своей «Феноменологии духа» Гегель проделал ставший впоследствии знаменитым анализ господства и рабства, с его логикой, которую можно назвать поистине убийственной, ибо она делит человечество на господ и рабов.
Ход его мысли таков.
Человека от животного отличает самосознание (животное обладает лишь самоощущением). Чтобы утвердить себя, самосознание оборачивается вожделением по отношению к тому, что находится вне его — к природному миру. Самосознание, таким образом, есть вожделение, которое должно быть удовлетворено. Поэтому, чтобы насытиться, оно действует, а действуя, отрицает, уничтожает то, чем насыщается. Самосознание есть отрицание.
Но уничтожать объект, не обладающий сознанием, например мясо в акте поедания, — это присуще также и животному. Человеку нужно, чтобы вожделение сознания обращалось на нечто отличное от бессознательной природы. Единственное в мире, что отличается от неё, — другое самосознание. Следовательно, необходимо, чтобы вожделение обратилось к другому вожделению, и чтобы самосознание насытилось другим самосознанием. Проще говоря, человек не признан другими и сам себя не признаёт человеком, пока он ограничивается чисто животным существованием. Он нуждается в признании со стороны других людей. В принципе любое сознание есть лишь желание быть признаваемым и одобряемым, как таковое, другими сознаниями. Мы порождены другими. Только в обществе мы обретаем человеческую ценность, которая выше животной ценности.
Высшая ценность для животного — сохранение жизни, и сознание должно возвыситься над этим инстинктом, чтобы обрести человеческую ценность. Оно должно быть способно рисковать собственной жизнью. Чтобы быть признанным другим сознанием, человек должен быть готов подвергнуть риску свою жизнь и принять возможность смерти. Таким образом, фундаментальные человеческие взаимоотношения — это отношения чисто престижные, постоянная борьба за признание друг друга, борьба не на жизнь, а на смерть.
Отсюда понятно, что с самого начала человеческой истории и на всём её протяжении возможны только два рода сознания, из которых одному недостаёт мужества отказаться от жизни и поэтому оно согласно признать другое сознание, не будучи само им признано. Короче, оно допускает, чтобы его рассматривали как вещь. Сознание, ради сохранения животной жизни отказывающееся от независимости, — это сознание раба. Другое, получившее признание и независимость, — это сознание господина. Они различаются при их столкновении, когда одно склоняется перед другим.
Но к несчастью для него, господин признан таковым сознанием, которое сам он самостоятельным не признает. Следовательно, он не может быть удовлетворён. Господство — это тупик. Поскольку господин никоим образом не может отказаться от господства и стать рабом, вечная участь господ — жить неудовлетворёнными или быть убитыми. Роль господина в истории сводится только к тому, чтобы возрождать рабское сознание, единственное, которое действительно творит историю. Раб не дорожит своей участью, он хочет её переменить. Следовательно, он может воспитать себя вопреки господину; то, что именуют историей, является лишь чередой длительных усилий, предпринимаемых ради обретения подлинной свободы. Отсюда уже недалеко до марксизма с его тотальной войной против всех видов и форм угнетения.
Логически опровергнуть эту схему трудно. Против неё протестуешь, скорее, сердцем и всем своим существом. Господство и рабство мне одинаково отвратительны, никогда не хотел ни повелевать, ни подчиняться (отнюдь не смешиваю с рабским подчинением сознательную дисциплину, необходимую в любом коллективе). Но ведь получается так, что всегда либо повелеваешь, либо подчиняешься. Равенство людей — утопия. Такая проклятая жизнь.
Проклятие труда
Столетия социальной дрессировки привели к тому, что слово «труд» стало для нас синонимом любых целенаправленных усилий. Нам вбили в голову, что труд облагораживает человека, что он делает наше существование осмысленным. Утверждается даже, что труд создал из нас разумных существ. Короче говоря, этот термин полностью замёл свои малопочтенные этимологические следы.
А ведь когда-то люди прекрасно сознавали связь между трудом и социальным принуждением. В большинстве европейских языков термин «труд» первоначально относился только к деятельности несамостоятельных людей, крепостных или рабов. В германских языках это слово означало тяжёлую работу осиротевших и обращённых в крепостную зависимость детей. В латыни «лабораре» значило «качаться под тяжестью груза» и в широком смысле имело в виду мучения и непосильный труд раба. Французский эквивалент слову труд — «травай», как и испанское «трабахо» происходят от латинского «трипалиум» — так называлось ярмо, которое использовалось для пыток и наказаний рабов и других несвободных. Воспоминание об этом ещё звучит в выражении «ярмо труда».
В русском языке слово «труд» восходит к праславянскому корню, несущему понятия «работа, беспокойство, забота, страдание, скорбь, болезнь, горе». (Кстати, и слово «работа» — однокоренное со словом «раб»).
Итак, по своему происхождению слово «труд» служит указанием на несчастливую судьбу в обществе. Это превосходно знали древние греки, говорившие, что труд — удел рабов. О проклятии труда говорит и Библия: в поте лица своего будешь есть хлеб свой…
Таким образом, труд — это деятельность тех, кто утратил свою свободу. Распространение труда на всех членов общества — это не что иное, как обобщение крепостной