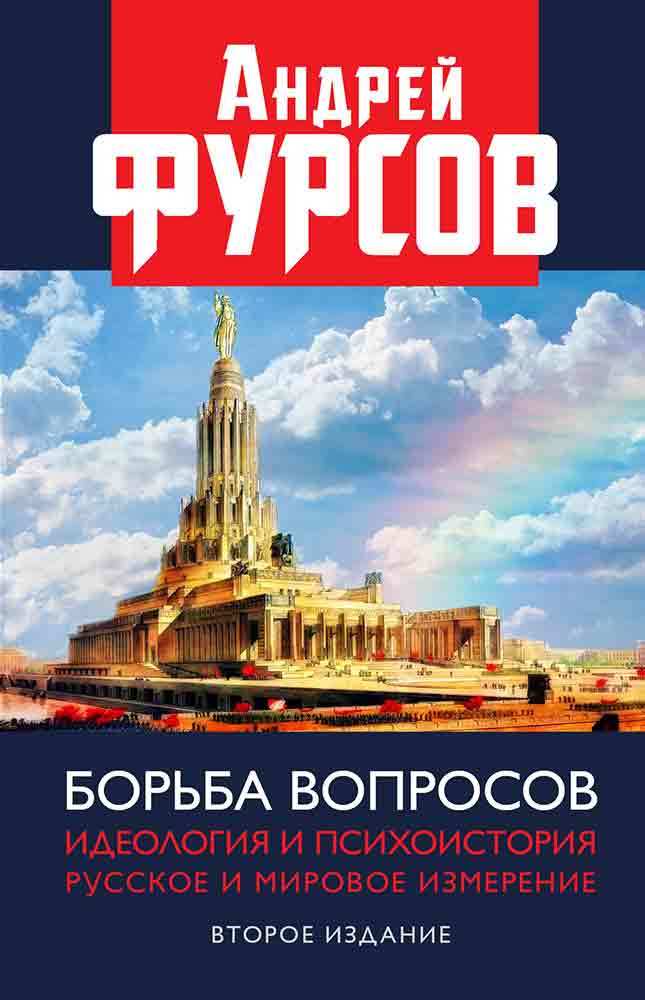традицию, сколько «идейную» (т. е. в данном случае религиозную). Если говорить о XIX в., то в условиях ослабления религиозного идейного комплекса (прежде всего среди представителей дворянского сословия) существовал запрос на иной идейный комплекс, а не просто на положительные знания. Особенно необходимость в таком идейном комплексе испытывали разночинцы – продукт стремительно развивающегося процесса разложения господствующих групп и начавшегося в правление
Николая I притока на чиновную службу выходцев из непривилегированных слоев. Им идея изменений – прогресса – по сути, заменила религию, стала верой. Ну а поскольку идею прогресса развивали как либералы, так и марксисты, обе эти идеологии (или причудливая комбинация их элементов) к концу XIX в. захватила практически всю разночинную интеллигенцию, развернув ее полностью в сторону источника этих идеологий – Запада, который стал «светской Меккой» для большей части русской интеллигенции.
Русская интеллигенция была элементом и европейской реальности, при этом она формировала и контролировала русское общественное мнение (вспомним Достоевского с его страхом: «либералы затравят» – их он боялся, похоже, больше чем власти). По сути, подъем русской интеллигенции можно считать первой властно-информационной революцией в истории капсистемы. Результатом этой революции стало возникновение слоя, специфической производственной основой, а также целью и результатом производства которого стали идеи-идеологии. Отсюда, помимо прочего, отрыв от реальной – производственно-материальной – жизни вообще и русской жизни в частности. Отсюда же – трагическая судьба русской интеллигенции в начале XX в. (по Высоцкому – «а в конце дороги той плаха с топорами») и трагифарсовая (читайте романы Ю. Полякова) совинтеллигенции, совслужащих – в конце его.
Впрочем, у финала совинтеллигенции есть трагический аспект, которого не было у русской интеллигенции, но с которым хорошо знакомы интеллектуалы на современном Западе. Речь о том, что в мире в результате научно-технической революции (НТР) и глобализации резко сокращается социальное пространство профессионалов умственного труда. В этом плане совинтеллигенция в конце XX в. угодила не только под советско-российский пресс, но и под мировой. Я имею в виду, во-первых, упадок идеологий, во-вторых, изменения в связи с НТР и глобализацией положения профессиональных интеллектуалов в мире позднего капитализма. Второй аспект выходит за рамки данной статьи, а вот о первом стоит сказать несколько слов.
XIII
Как мы помним, идеология возникла как идейно-политическая реакция на социальный феномен изменения, которое к тому же воспринималось как прогресс. Либерализм и марксизм выступали как идеологии прогрессистские, консерватизм – как нейтрально-прогрессистская или даже антипрогрессистская. Таким образом, идеология была связана с верой в прогресс, в универсальные ценности. Своего пика вера в прогресс, а, следовательно, мощь идеологий (особенно марксизма и либерализма) достигла в 1950-60-е годы.
Пролистывая научные и научно-популярные журналы того времени, поражаешься всеохватывающему духу оптимизма той эпохи. Оптимизм характеризовал прогнозы развития как отдельных стран (бедные страны догоняют богатые, бедные классы – богатых), так и человечества в целом (полеты в космос и т. д.). Весь мир был на подъеме, и не случайно французы назвали период между 1945 и 1975 гг. «славным тридцатилетием» (les trentes glorieuses). Пожалуй, в 1950–1960 гг., как никогда в истории, полное осуществление прогресса если «не здесь и сейчас», то за «ближайшим поворотом», казалось близким. В этом сходились как либералы, так и марксисты. Казалось, что в середине XX в. воплощаются, наконец, мечты и идеалы Просвещения, реализуются цели идеологий марксизма и либерализма. Не случайны популярность и широкое распространение между 1945 и 1975 гг. либеральных теорий модернизации и марксистских теорий некапиталистического развития. Если убрать идеологические различия, то посыл теорий одинаков: заимствование западных по происхождению (в одном случае – капиталистических, в другом – антикапиталистических) институтов, общественных форм, ценностей и целей, гарантирует «светлое будущее». Именно в «славное тридцатилетие» появилось огромное количество работ, в которых настоящее и прошлое незападных обществ излагались с помощью понятийного аппарата, отражающего западный опыт исторического развития XIX–XX вв. Казалось, тенденции и события «славного тридцатилетия» доказывают правомерность и справедливость такого подхода: в мировой войне потерпели поражение силы зла с их антипросвещенческим, антипрогрессистским проектом, либералы и марксисты победили, рухнула колониальная система, самые различные страны, в том числе и освободившиеся, демонстрировали высокие темпы роста, движение охватило все «миры» – Первый, Второй и даже Третий. Особенно 1950-е – первая половина 1960-х годов казались эпохой изобилия. Знаменитая книга Дж. Гэлбрейта так и называлась «The affluent society» (1958). Росло благосостояние людей и в соцлагере.
Казалось, все к лучшему в этом «лучшем из миров», как говаривал вольтеровский Кандид. Как же тут не поддаться эйфории?
Однако постепенно эйфория стала спадать, а оптимизм слабеть. Водоразделом стали 10–12 лет между 1968 и 1979 гг. – «студенческая революция» на Западе, отказ США от бреттон-вудских соглашений, девальвация доллара, нефтяной кризис, мировая инфляция, хомейнистская революция в Иране. Начался мировой экономический спад, пришла стагфляция, и экономисты вспомнили о циклическом характере подъемов и спадов. «Славное тридцатилетие» совпало с «повышательной волной» кондратьевского цикла, и в 1968–1973 гг. эта волна сошла на нет. Стало ясно: сокращение разрыва между богатыми и бедными как на национальном, так и на мировом уровне закончилось, разрыв начал стремительно расти. В 1991 г. рухнул коммунизм и распался СССР, т. е. прекратила свое существование социосистемная альтернатива капитализму, воплощение Большого Левого (антикапиталистического) Проекта Модерна. Это назвали крахом марксизма, но ведь и либеральная модель обещала благоденствие отставшим и тоже со всей очевидностью провалилась практически во всем мире.
XIV
Итак, уже в 1980-е годы многим стало ясно: наступил конец прогресса. Книги именно с таким или подобными названиями («The end of progress», «La fin de Tavenir») стали часто появляться на прилавках магазинов. На тех же прилавках «фэнтези» начала стремительно теснить «science fiction». По иронии истории, конец (социального) прогресса для подавляющего (80–85 %) числа землян стал результатом небывалого (технического) прогресса, революции в производстве – научно-технической. НТР впервые в истории создала ситуацию, когда информационно-энергетические факторы производства становятся важнее вещественных.
Превращение капитала в электронный сигнал означало не только победу времени над пространством и рынка (мирового) над государством (национальным). Это резко усилило позиции капитала по отношению к рабочей силе и создало ситуацию «свободы без равенства», в которой практически всегда выигрывают богатые и сильные. Результат – резкое усиление разрыва между богатыми и бедными странами, с одной стороны, и богатыми и бедными внутри отдельных стран, с другой; отсечение от «общественного пирога» тех социальных групп (значительной части мировых рабочего и среднего классов), которые улучшили свое положение во время «славного (индустриального) тридцатилетия» и которые теперь, в условиях наукоемкого производства, в таком количестве и с таким достатком уже не были нужны. Отсюда – мягкая, бархатная, но тем не менее, экспроприация, дифференциация на «глобалов» и «локалов» (3. Бауман). Мягкой, однако, экспроприация, может