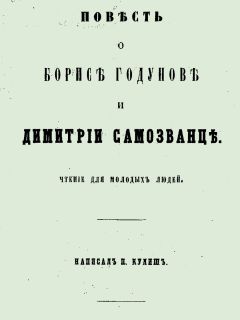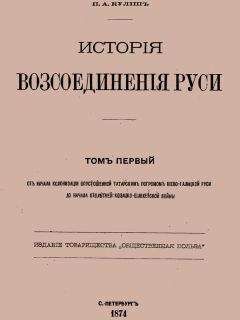Три дня москвичи молились с патриархом в церквах, чтобы Господь смягчил сердце Бориса и внушил ему желание принять венец Мономахов. Так умел Годунов повернуть всею Москвою: его согласия царствовать народ молил у неба, как величайшей милости! Лукавый честолюбец устроил дела так, чтобы восшествие его на престол казалось, делом самого Неба, в следствие неотступных молений всей собранной в Москве русской земли. Исполняя эту часть, как выразился Карамзин, великого театрального действия, духовенство и вельможи объявили Годунову, что он избран в цари уже не Москвою, а всею Русью; но возвратились к народу опять без успеха. Смиренный избранник ужасался высоты, на которую его возводили, назвал своих просителей искусителями, выслал из монастыря и не велел возвращаться. Мог ли после этого усомниться народ, или по крайней мере большинство его, что мысль о престоле в самом деле никогда не входила в сердце Годунова и что неограниченная власть над соотечественниками, равная на земле Божеской, устрашает его душу, святую и добродетельную? Столь высокое понимание царских обязанностей и святости верховного сана, с одной стороны, по рассчету Годунова, должно было заставить народ смотреть на него, как на единственное сокровище добродетели, а с другой — возвести его будущую царственность на высоту, доступную одному благоговению.
Отвергнутые в другой раз, духовные и светские сановники изъявили наружное негодование, определили петь во всех церквах праздничный молебен и обратиться еще раз к милосердию правителя; если ж он и теперь не сжалится, то святители условились отлучить его от церкви, как человека, небрегущего о благе отечества, там же, в монастыре, сложить с себя святительство, кресты и панагии, оставить образа чудотворные, запретить службу и пение во всех церквах; «пускай народ и царство гибнут в мятежах и кровопролитии, а виновник этого неисповедимого зла да отвечает пред Богом в день Страшного Суда!» Это был новый акт «великого театрального действия». Годунов таким образом из алчного властолюбца делал себя, в глазах народа, жертвою, влекомою насильно к алтарю отечества.
Всю следующую ночь не угасали огни в Москве, не прерывались в церквах моления, и на рассвете все обширное Девичье поле перед монастырем снова покрылось народом. Отпев собором литургию в монастырской церкви, патриарх велел нести кресты и образа в кельи царицы. Там, с земными поклонами и слезами, духовенство и знатнейшие сановники опять принялись умолять царицу-инокиню благословить брата на царство. Но Борис просил сестру пощадить его от бремени, превосходящего его силы, и снова клялся, что никогда не дерзал возноситься умом до страшной для смертного высоты престола. Между тем присутствовавшие при этом лицедействии сановники следили за движениями царицы и, когда она оборачивалась к окну посмотреть на народ, махали руками стоящим у окна на крыльце; те делали тот же знак приставам, рассеянным в народе, внутри монастырской ограды и за оградою; а по приказу приставов, все несметное сборище людей повергалось ниц и вопило о милосердии [16]. Кого не потрясло бы это единодушие необозримого сонма соотечественников! Пружины, двигавшие ими, ведомы были немногим. Прочие непритворно умилялись согласным движением сердец, можно сказать, всего населения царства; и когда наконец Борис, с сокрушением сердца, согласился на прошение сестры занять её место на престоле, когда патриарх объявил дворянам, приказным и всем людям, что Бог даровал им царя, общая радость была неописана. Плакали, обнимали друг друга, как будто освободились от величайшей опасности, или поражены неожиданным счастьем. Доведя свое театральное представление до такой чувствительной развязки, Борис, тронутый, по-видимому, до глубины души общим чувством любви к нему, отправился с духовенством и сановниками в монастырскую церковь, подвигаясь не без труда вперед сквозь восторженную толпу, которая теснясь лобзала руки, ноги и одежду своего владыки. В церкви Годунов пал перед древними отечественными святынями, Смоленской и Донской иконами; патриарх благословил его на государство и нарек царем. Процессия возвратилась в город, при звоне всех московских колоколов и радостном крике народа. Годунов остался еще на несколько дней в монастырском уединении. Верный своим соображениям, он не спешил облачаться в царское величие, которое принял с такими многочисленными предосторожностями.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Борис еще притворствует. — Крестоцеловальная запись. — Въезд в столицу. — Фёдор и Ксения, дети Борисовы. — Серпуховское ополчение. — Устройство пограничной стражи. — Бивуаки под Серпуховым. — Ханские послы. — Царское венчание. — Милости. — Отрепьев под тайным покровительством бояр. — Подозрения Борисовы. — Ссылка Бельского. — Доносы. — Ссылка Романовых, Черкаских и других. — Отрепьев уходит из Москвы. — Заботливость Борисова о ссыльных. — Душевные страдания его. — Шуйские. — Шведский принц Густав. — Датский королевич Иоанн. — Отрепьев странствует по монастырям и лесам. — Молитва о царе, обнародованная Борисом. — Иностранная гвардия. — Ропот народа. — Отрепьев дьяконом в Чудовском монастыре.
В наступившую масленицу Москва увидела своего царя. Еще за городом встретили его купцы с богатыми подарками. Борис принял один хлеб, отказался от золотых и серебряных кубков, от соболей и жемчуга, ласково благодарил за все и сказал достойные царя слова: «Богатство мне приятнее в руках народа, нежели в казне.» Встреченный потом духовенством, синклитом и народом, молился с ними в Успенском храме, принял в другой раз благословение на царство от патриарха и поздравления граждан, поклонился гробам прежних царей московских, потом предписал боярской думе управлять государственными делами и возвратился в монастырь к сестре. Там, утешая печальную вдову, Борис неусыпно занимался делами, часто приезжал и в самую думу, но отклонял просьбы духовных и светских сановников переехать с семейством в царские палаты. Он и теперь казался до того равнодушным к верховному сану, что снова просил освободить себя от этого бремени. А между тем предложена была москвитянам для присяги на верность царю крестоцеловальная запись, показывающая лучше всего, как дорожил он престолом. В этой записи выразились и недоверчивость его к народу, свойственная лицемерам, оскорбительная для честных людей, и суеверные понятия тогдашнего времени. Присягающий, например, должен был говорить по ней следующее: «Также мне над государем своим, и над царицею, и над их детьми ни в еде, ни в питье, ни в платьи, ни в ином ни в чем никакого лиха не учинить и не испортить, и зелья лихого и коренья не давать; а кто мне станет зелье лихое или коренье давать, или мне станет кто говорить, чтоб мне над государем своим, и над царицею, и над их детьми какое лихо учинить, или кто захочет портить, и мне того человека никак не слушать и зелья лихого и коренья у того человека не брать; да и людей своих с ведовством и со всяким лихим зельем и с кореньем не посылать, и ведунов и ведуней не добывать на государское и на царицыно, и на царевичево, и на царевнино на всякое лихо; также государя своего и его царицу, и их детей на следу всяким ведовским мечтанием не испортить, ни ведовством по ветру никакого лиха не насылать и следу не вынимать ни которыми делы, ни которою хитростью; а как государь царь и его царица, и их дети куда поедут, или пойдут, и мне следу волшебством не вынимать, и всяким злым умышлением и волшебством не умышлять и не делать ни которыми делы, ни которою хитростью, по сему крестному целованию; а кто тако ведовское дело похочет мыслить, или делать и я то сведаю, и мне про того человека сказать.»
Наконец апреля 30 Борис торжественно въехал в столицу и встречен был опять всеми сословиями. Он вышел из великолепной колесницы и подошел к народу, держа за руку девятилетнего сына, Фёдора, а другой рукою ведя пятнадцатилетнюю дочь, Ксению. Не столько для самого себя, сколько для них, добивался он царского сана, и радовался теперь больше как отец, нежели как честолюбец: не знал он, какую страшную участь уготовил своему семейству вместе с царским величием! И кто бы, глядя тогда на этих цветущих красотою и счастливых детей, мог предсказать, что отец, по ступеням трона, ведет их на мучительную казнь! Кто бы сказал, что так недолговечны будут величие и жизнь самого Бориса! В то время он был еще в цвете мужественных лет и здоровья. Высокий рост, выразительная физиономия, красота очертаний лица редкая, а больше всего величавый вид и повелительный взгляд возвышали его и без блистания царских одежд над окружающими. Народ глядел на него и на детей его с восторгом, видя в этом новом царственном поколении залог спокойствия и счастья государственного. Торжество его было истинное.
Опять были поднесены царю богатые дары от народа, и опять царь и дети его приняли только хлеб: Борис хотел казать себя блюстителем общего благосостояния, равнодушным к личному обогащению. В церкви Успения патриарх в третий раз благословил его на государство и, в знак царственности, возложил на него священный крест митрополита Петра. Потом был общий пир у царя для духовных и светских, для знатных и простолюдинов. Всех угощали с беспримерною щедростью.